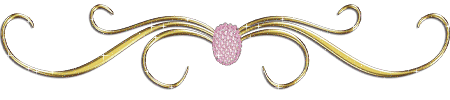Генри-Ральф Левенштейн (Джонстон)
(1918-2004)
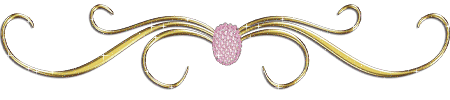
За решеткой и колючей проволокой
Предисловие
Годы репрессий, массовых и неправых расправ, годы сталинского террора навсегда останутся мрачными страницами в истории нашего государства. И одной из таких зловещих страниц уходящего XX столетия несомненно являются годы, когда миллионы невинных людей гнали через тюрьмы и лагеря всем известного сейчас «архипелага ГУЛаг».
Проходит время, и уже почти забыты военное лихолетье, годы произвола и «сталинщины». Но еще известный философ Гегель предупреждал, что «главный урок, который извлекают люди из истории, состоит в том, что они не извлекают из нее никаких уроков». Об этом нельзя забывать, ибо забытое может повториться. Есть очень меткая народная пословица: кто старое помянет — тому глаз вон, а кто забудет — тому два. Это в полной мере относится и к нашему прошлому.
Тех, кто прошел это испытание, эти круги ада, остались единицы, лишь они могут повествовать об этом. Одним из них является автор этой книги — Генри-Ральф Левенштейн (Джонстон).
Генри Левенштейн родился в 1918 году в городе Николаеве (Украина), где его отец, подданный США, работал по контракту на судостроительном заводе инженером-конструктором подводных лодок. С 1920 по 1932 год Генри жил в Берлине, закончил четыре класса народной школы и три класса гимназии. В 1932 году в связи с переводом отчима, сотрудника советского торгпредства в Дании, на другую работу, переезжает в Москву. Здесь Генри Левенштейн закончил немецкую школу им. К. Либкнехта и поступил в 1-й Московский медицинский институт. В 1938 году отчим был арестован и расстрелян как «враг народа». В 1941 году был арестован и осужден Особым совещанием НКВД СССР сам Генри Левенштейн. В местах заключения находился до 1948 года, а затем как лицо немецкой национальности до 1956 года — на спецпоселении в Юринском районе Марийской АССР, где работал заведующим Юркинским врачебным участком. В 1963 году переехал в Йошкар-Олу и работал в должности врача-рентгенолога Республиканского противотуберкулезного диспансера.
В 1979 году вышел на пенсию. Чтобы не было забыто то, как страдали и гибли многие наши близкие, Генри Левенштейн взялся за перо.
Как вспоминает Генри Левенштейн, сейчас тоже существуют лагеря и тюрьмы, но их не сравнить с теми, которые были в тридцатые и особенно сороковые военные годы. Тогда имела место настоящая борьба за существование, в которой побеждали лишь физически и духовно крепкие люди. При этом они были вынуждены, нередко против своей воли, нарушать законы не только уголовные, но и этические.
А. Солженицын об этом писал так: «Тот, кто не отупеет в лагере, не огрубит свои чувства, тот погибает. Я сам только этим и спасся». И еще в более гиперболической форме подтверждает эту мысль наполненное злым юмором лагерное выражение: «Порядочный человек тот, кто делает подлости неохотно». Основной причиной потери людьми своего достоинства был голод, который из многих делал негодяев, насильников, убийц, до неузнаваемости калечил их физически и морально.
Однако, — вспоминает Г. Левенштейн, — в местах заключения не все было окрашено в черный цвет — были и светлые моменты, были стойкие люди, существовала и настоящая дружба и даже самоотверженная любовь. И среди сотрудников тюрем и лагерей встречались не только изверги и мучители. Немало было людей, которые по-человечески относились к заключенным и многим из них спасали жизнь.
Автор без прикрас повествует о том времени, что провел в тюрьмах и лагерях, показывая себя не только с положительной стороны. «Если бы я был всегда хорошим и законопослушным, говорит Левенштейн, то вряд ли остался бы в живых».
Предлагаемая читателю книга — не художественное произведение с вымышленными эпизодами, а документальный материал очевидца, семь лет находившегося в местах заключения. Для большей достоверности включены рисунки автора, который не считает себя художником.
Смысл книги — убедить читателя в одном — это не должно повториться.
Н. И. Сазонов
Арест
Был хмурый сентябрьский день. Я сидел на диване и читал «Мои скитания» Панаити Истрати. На душе было тревожно. Дней десять тому назад в обратился в военкомат, чтобы меня направили в действующую армию.
— Вы медик? — спросил меня усталый военный,— немецкий знаете?
— Да, в совершенстве.
— У вас есть братья и сестры?
— Нет.
— Значит вы у матери единственный?
— Да.
— Вы все хорошо обдумали?
— Да. Оставаться в городе тяжело морально. Каждый видит во мне врага. Меня останавливают ежедневно по несколько раз и спрашивают документы. Видимо, слишком подозрительна моя внешность. Приходится постоянно таскать с собой кучу документов: паспорт, студенческий и профсоюзный билеты и т. д. На фронте проще. Там я могу на деле доказать, на чьей я стороне.
— Да, лицо ваше может вызвать подозрение. Пожалуй, и одежда,— военный улыбнулся. — Оставьте свой адрес, подумаем. Ответ сообщим в ближайшее время.
Моя мать, как и жена Мила, не знали об этом разговоре. Вряд ли они одобрили бы мой поступок. Пожалуй, для этого были основания. Куда спешить? Идти на войну никогда не поздно.
Комната в Москве, которую нам оставили родители Милы, была очень маленькая, не более двенадцати квадратных метров, и забита мебелью. Кроме дивана, кровати, стола и шифоньера порядочное место занимало пианино. Мила когда-то училась играть на нем.
Год тому назад ее родители поехали работать в Кавказский государственный заповедник, и Мила стала полновластной хозяйкой квартиры, точнее комнаты.
— Они чувствовали, что мы поженимся,— объяснила мне позже Мила, — и не хотели нам мешать.
Была, однако, еще одна причина. Константин Григорьевич Архангельский — отец Милы, в прошлом комбриг и бывший царский офицер, при Ягоде был осужден на пять лет и года два-три назад вернулся с острова Вайгач, где отбывал срок наказания. В Москве его не прописывали. Он работал где-то в Московской области, и довольно часто, правда, нелегально, жил в Москве. Долго так продолжаться не могло, и рано или поздно об этом узнала бы милиция. Последствия были бы весьма нежелательные. Вот поэтому родители Милы и поехали в заповедник.
Резкий звонок прервал мои мысли. Звонили дважды. Значит, мне. Я открыл дверь. Незнакомый мужчина спросил мою фамилию.
— Это я.
— Пойдемте со мной! — сказал он приказным тоном,— и захватите свой паспорт. А где ваша жена?
— На работе.
— Тогда берите и ее паспорт.
На улице было темно и как-то непривычно тихо. Кругом ни одного прохожего. Мы шли недолго, молча. Вскоре спутник мой остановился перед милицией.
— Обратитесь к начальнику,— сказал он,— у него узнаете причину вызова.
В помещении милиции было полно народа. В основном я заметил людей пожилого возраста. Они сидели на скамейках, стояли в проходах, и лица их были чем-то озабочены. Я слышал обрывки фраз, которые меня насторожили.
— У меня только фамилия немецкая.
— Я участвовал в гражданской, имею ранения и награды...
— А я не знаю даже ни одного немецкого слова... Начальник милиции сидел перед письменным столом и хмуро взглянул в мою сторону.
— Дайте паспорт,— буркнул он. Я дал ему свой паспорт.
— Вы обязаны покинуть Москву в течение 48 часов,— холодные глаза без выражения пронизывали меня.— Можете взять с собой багаж весом не более 200 килограммов.
— Подождите,— прервал я его,— как же так? Через две-три недели я должен закончить институт, получить диплом.
— Ничего не знаю. Приказ есть приказ. Жена поедет с вами?
— Этого я вам не могу сказать. Я должен ее сначала спросить.
— Ее паспорт у вас?
— Да.
— Дайте его сюда и ждите в коридоре.
Меня вызвали минут через пять.
— Годен только для Карагандинской и Кзыл-Ординской областей Казахской ССР.
— А может быть, мне все-таки разрешат закончить институт? — обратился я к начальнику.
— Вам уже сказали, что приказ есть приказ. Сейчас война. Можете идти.
Первый человек, которого я встретил на улице, остановил меня, подозрительно оглядывая с ног до головы. Было довольно прохладно, и я надел очень теплый и нарядный норвежский свитер, который его, видимо, смущал.
— Гражданин, покажите ваши документы!
Я предъявил свой паспорт.
— Немец?
— Да.
— Сразу угадал. По морде. Студент?
— Да.
Он посмотрел на фотокарточку, потом на меня, проверил прописку.
— Ладно, идите,— сказал он огорченно, вероятно, жалея, что я не диверсант.
Около моего дома шел патруль. Проверяли затемнение окон. Я поднялся по скрипучей деревянной лестнице и открыл наружную дверь. В коридорчике гудел примус — варился суп. Значит, Мила была дома. Тихо вошел в комнату. Жена как раз накрыла стол. Мы обнялись.
— Откуда это ты идешь? — спросила она удивленно.
Я рассказал ей коротко обо всем, что произошло в этот вечер.
— Не везет нам с тобой,— сказала она задумчиво.— Только начали жить. А может быть, так и лучше. Казахстан — это не фронт, где каждый день убивают. Интересно, всех ли немцев высылают?
— Не знаю.
— У меня предложение. Давай зайдем на минутку к соседям. Они тоже немцы.
Знакомые Милы — очень интеллигентные пожилые люди жили в доме напротив. Квартира оказалась большая, богато обставленная: старинная мебель, ковры, мейссенский фарфор, кузнецовские сервизы, на стенах картины, множество безделушек из слоновой кости, дерева, бронзы...
Хозяева встретили нас совершенно растерянные.
— Вас тоже высылают? — спросили они.
— Да.
— А мы сейчас сидим и спрашиваем друг друга, что делать? Мы люди уже старые, всю жизнь прожили в Москве. Что же будем делать в Казахстане? А вещи? С ними связана вся наша совместная жизнь. Все эти картины, ковры, предметы старины были нами собраны за многие годы. Как же сейчас расстаться с ними?
Да, у них положение было значительно хуже, чем у нас. Мы все-таки были молоды и здоровы. А вещи? Пожалуй, лишь одно пианино имело какую-то ценность.
Мы вернулись в свою комнату, сели на диван и начали размышлять.
— Обязательно надо захватить палатку,— предложил я.— А вдруг будет плохо с жильем. Спальники у нас есть. На первое время достаточно.
Мила плохо слушала меня и, видимо, думала о своем.
— Завтра надо пойти на работу и уволиться,— сказала она,— да и тебе придется идти в деканат и забирать документы.
Указ
Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья»
По достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы в районах, населенных немцами Поволжья.
О наличии такого большого количества диверсантов и шпионов среди немцев, проживающих в районах Поволжья, советским властям никто не сообщал, следовательно, немецкое население районов Поволжья скрывает в своей среде врагов советского народа и Советской власти.
В случае, если произойдут диверсионные акты, затеянные по указке Германии немецкими диверсантами и шпионами в республике немцев Поволжья или в прилегающих районах, случится кровопролитие, и Советское правительство по законам военного времени будет вынуждено принять карательные меры против всего немецкого населения Поволжья.
Во избежание таких нежелательных явлений и для предупреждения серьезных кровопролитий Президиум Верховного Совета СССР принял необходимым переселить все немецкое население, проживающее в районах Поволжья, в другие районы с тем, чтобы переселяемые были наделены землей и чтобы им была оказана государственная помощь по устройству в новых районах.
Для расселения выделены изобилующие пахотной землей районы Новосибирской и Омской областей и Алтайского края, Казахстана и другие соседние местности.
В связи с этим Государственному Комитету Обороны предписано срочно произвести переселение всех немцев Поволжья и наделить переселенцев — немцев Поволжья землей и угодьями в новых районах.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. Горкин
№21-160
28 августа 1941 г
ПРИКАЗ
народного комиссара по проведению операции по переселению
немцев из гор. Москвы и Московской области
001237 8/д сентября 1941 г. гор.Москва
Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны о переселении немцев из гор. Москвы и Московской области, провести следующие мероприятия:
1. Операцию начать 10 сентября и закончить 15 сентября 1941 года.
2. Проведение операции возложить на начальника Управления НКВД по Московской области — старшего майора государственной безопасности тов. Журавлева и начальника 2-го управления НКВД СССР комиссара государственной безопасности 3 ранга тов. Федотова.
3. Операцию провести, руководствуясь прилагаемой к настоящему приказу инструкцией.
4. Для обеспечения эшелонов с переселенными в пути следования войсковым резервом, генерал-майору Апполонову выделить в распоряжение начальника УНКВД по Московской области тов. Журавлева 4-х командиров среднего начсостава в качестве начальников эшелонов и 4 команды красноармейцев по 21 чел. в каждой.
5. Тов. тов. Журавлеву и Федотову состоящий на оперативном учете УНКВД антисоветский и сомнительный элемент арестовать, а членов их семей переселить в общем порядке.
6. Начальнику Транспортного управления тов. Синегубову обеспечить своевременную, по графику, подачу вагонов под погрузку и проведение эшелонов к месту назначения.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Л. Берия
Из справки Отдела спецпереселений НКВД СССР о переселении граждан немецкой национальности (на 28 октября 1941 г.)
Из республики немцев Поволжья операция по переселению закончилась 20. IX. 1941 г. Подлежали переселению 438280 чел. Из Москвы и Московской обл.— 8640 чел. (15 сент. 1941 г.) ... Всего подлежало переселению немцев 872670 чел. Переселено на 15 октября 1941 г.— 749613 человек.
Утром поехал в институт. Погода была мрачная и холодная. Мрачно было и на душе. Люди ходили по улице озабоченные, с утомленными лицами. Все куда-то спешили. Многие несли вещмешки, рюкзаки, баулы, чемоданы. Окна домов были заклеены накрест бумагой, перед магазинами лежали мешки с песком. Плакаты призывали быть бдительным, беспощадно уничтожать врагов, рассказывали о зверствах фашистов, предупреждали болтунов.
В деканате меня встретили сочувственно.
— Я думаю, что вам дадут все необходимые документы,— успокаивала меня секретарша.— Посидите здесь немного, я поговорю с деканом. Прошло минут десять. Дверь, ведущая в коридор, открылась.
— Вас вызывают в соседнюю комнату,— обратилась ко мне миловидная студентка четвертого курса.
Я вышел из деканата, остановился перед дверью незнакомой мне комнаты и постучал.
— Войдите! — услышал я глухой голос. В конце узкой, длинной комнаты за письменным столом сидел человек в штатском.
— Садитесь,— обратился он ко мне.
В его руках я увидел бумагу, которая, видимо, имела отношение ко мне.
— Мы изменили свое решение в отношении вас,— сказал он.— Читайте!
Я обрадовался. Наверно, оставили в Москве, чтобы дать возможность закончить институт. Бумага, однако, оказалась совершенно иной, чем я предполагал. Это был ордер на обыск и арест.
— Поняли? — спросил человек в штатском.
— Да.
— Тогда пойдемте.
Около института нас ожидало такси. Шофер был не один. На заднем сидении я заметил человека в штатском, рядом с которым меня посадили. Мы ехали ко мне домой.
Мила, к счастью, уже вернулась с работы. Я стал объяснять причину появления незваных гостей, но она остановила меня.
— Мне все известно, Гарри. Они уже были здесь.
Мы сели на диван, а люди в штатском начали обыск.
— В первую очередь надо тебе идти в милицию,— посоветовал я жене,— обстоятельства изменились, и тебе незачем ехать в Казахстан. Ты не немка.
— Это, конечно, так,— ответила она,— но милиция может думать по-другому. Печать уже стоит в паспорте.
— Разговоры! — прервал нас один из штатских,— говорить запрещается.
— Не имеете права,— возмущалась Мила.— Вы не можете лишать меня возможности поговорить с мужем перед расставанием.
Штатские почему-то замолчали и продолжали обыск, пригласив соседку в качестве понятой. Они работали, не спеша, и очень тщательно осматривали каждую вещичку, каждую коробку, каждую бумажку. Перебирали аптечку, грязное белье, мою коллекцию почтовых марок и монет, тетради со стихами. В туалет меня сопровождал один из штатских и терпеливо караулил у двери.
В шкафу нашли карту генерального штаба, как на грех западной границы, и положили ее на стол.
— Это моя карта,— объяснила Мила.— Я картограф и работаю в издательстве «Большой атлас мира».
— Разберемся, а пока мы ее конфискуем,— ответил сотрудник НКВД, возрастом постарше.
Я мечтал сейчас лишь об одном, чтобы пришла мать. Меня ожидали тяжелые испытания, которые, возможно, не удастся преодолеть, и хотелось проститься с ней.
Раздался звонок. Мила открыла дверь, и, к моей радости, на пороге появилась мать. Она далеко не каждый день навещала нас, но, видимо, какое-то шестое чувство подсказало ей прийти именно в этот день. Она все поняла без слов. Опыт был. Всего три года прошло с того момента, когда арестовали ее братьев Степана и Эдуарда Аппингов, а также моего отчима Григория Александровича Раппопорта.
Сейчас мы уже сидели втроем на диване. Обыск подходил к концу.
— Собирайте вещи! — приказали мне,— и подпишитесь здесь,— мне вручили протокол обыска.
ПРОТОКОЛ
На основании ордера 3————————— УГБ УНКВД МО за № 413
oт 11 сентября 1941 г. произведен обыск /арест у гр. Левенштейн Г. Р.
в доме № 45 кв. № 8 по улице (село, деревня) 3. Мещанская ул.
При обыске присутствовала Волосова Адель Савельевна, проживает в кв. 7 данного дома.
Согласно данным задержан гражд. Левенштейн Генри-Ральф Рудольфов. 1918 г.
Взято для доставления в ... в 3 УГБ УНКВД МО следующее (подробная опись всего конфискуемого или реквизируемого)
1. Паспорт на имя Левенштейна за № Vlll-cy-700951
2. Удостоверение за № 50 выдано фрунз. р. ВК
3. Студенческий билет за № 1326
4. Зачетная книжка I. Медицинского института за № 1707
5. Разная переписка на нем. языке на 20-ти л.
6. Записки с адресами и телефонами 2 штук
7. Записная книжка с адресами и телефонами одна штука
8. Шесть листов на которых напечатано на машинке на немецком языке
9. Фотокарточки четыре штука
10. Топографические карты три штука
Обыск произведен сотрудниками Шерстнюк и А...
При обыске заявлена жалоба от Левенштейна
1. на неправильности, допущенные при обыске и заключающиеся по мнению жалобщика в ... не поступило
2. на исчезновение предметов, не занесенных в протокол, а именно ... нет.
Примечание: В квартире Левенштейна осталась проживать жена Архангельская Людмила и ее мать.
Запечатана / Распечатана Все взятое у гр-на Левенштейн с № 1 по № 10 опечатано сургучной печатью за № 26 УНКВД МО
Все заявления и претензии должны быть занесены в протокол. После подписания протокола никакое заявление и претензии не принимаются.
С запросами обращаться в бюро справок ... УГБ УНКВД МО по адресу Матросская тишина дом,
Все указанное в протоколе и прочтение его вместе с примечаниями, лицами, у которых обыск производился, удостоверяем
Обыскиваемого Генри Левенштейн
Задерживаемого
Подписи Представителя домоуправления Волосова А. С.
(в сельских местностях представители сельского совета)
Производивший обыск А... Ш...
Копию протокола получила Архангельская
11 сентября 1941 года.
Мила достала мой старый альпинистский рюкзак и начала укладывать его. Она ничего не забыла, что требуется для дальней дороги: постельные принадлежности, полотенца, теплое белье, рубашки, носки, норвежский свитер, мыло и т. п. И, конечно, деньги.
Настало время расставания — последние минуты перед поездкой в неизвестность.
— Не беспокойтесь,— сказал я, обращаясь к матери и Миле,— меня так быстро не поломают. Я выдержу. А к тебе, Мила, одна просьба,— это я уже говорил тихо, только для нее,— жди меня не больше трех лет. Если я не вернусь — считай себя свободной.
— Буду тебя ждать и больше, если ты только вернешься ко мне,— ответила она.
Я понял, что она имела в виду. Мила была на три года старше меня, и эта разница в возрасте беспокоила ее всегда.
— Конечно, я вернусь к тебе.
Мать перекрестила меня. Насколько я помню, впервые. Это была ее последняя надежда. В те годы я не знал, что такое слезы, но в этот момент с трудом сдержал их.
И вот я надел свой старенький рюкзак и медленно спустился по ветхой лестнице. Внизу на секунду остановился. Когда мы еще не были женаты, то часто стояли здесь в ненастную погоду и целовались. Времена были тяжелые, и купить что-либо, особенно из одежды, было почти невозможно. Еще хуже дело обстояло с обувью. Мои полуботинки были дырявыми, а ноги в дождь всегда мокрые. Поэтому в слякотную осень мы скрывались здесь под лестницей, где всегда было сухо, да еще темно.
В такси меня посадили в середину, как арестанта, и, пока ехали, хватило времени на размышления. Я не очень удивился, когда арестовали, и не потому, что чувствовал за собой какую-то вину. Просто обстановка была такая.
В 1938 году я присутствовал при аресте дяди Степана, а когда на следующее утро прибежал к матери, то узнал, что в эту же ночь забрали и отчима. Оба были честнейшими советскими гражданами, и если у кого-то еще были кое-какие буржуазные взгляды, то не у них, а у меня.
Невольно вспомнил русскую пословицу — от тюрьмы да от сумы не зарекайся! Да, в нашей стране проще простого оказаться в тюрьме, и совсем не обязательно для этого совершать преступления. Сейчас я испытывал даже чувство гордости, что удостоился чести оказаться за решеткой. Раз там находились не только мои близкие, но и овеянные славой полководцы, латышские стрелки, старые большевики ... значит, это было почетно.
В «Таганке»
Тюрьма притягивала меня своей необычностью, загадочностью. Она была окутана тайной, недоступной обывателю, и здесь предстояло знакомство с совершенно иным миром — миром воров, убийц, насильников.
Я знал, что будет тяжело, очень тяжело, но также и интересно. Я вспомнил «Записки мертвого дома» Достоевского и «Испытание» Вилли Бределя — книги, написанные в разных столетиях, но о том же самом — о местах заключений. И тогда появилось чувство страха — а вдруг и здесь будет такое.
Но вот такси остановилось.
— Выходите! — грубый голос прервал мои размышления.
В сумерках я увидел мрачное здание с мощной каменной стеной. Это была знаменитая тюрьма «Таганка».
Открывались ворота, двери, окошечки, и первое, на что я обратил внимание, был своеобразный запах тюрьмы. Сочетание карболки, хлорной извести, чернил... запах, который не забывается.
Меня привели в большое помещение, похожее на канцелярию, С высокими столами, очень напоминающими столы старых почтовых отделений. В помещении было, по крайней мере, с десяток охранников и раза в три больше арестованных с чемоданами, сумками и рюкзаками. Проводился обыск вновь прибывших.
— Дайте вещи! — обратился ко мне один из охранников. — Фамилия!
Я назвался.
— Статья?
— Статья? Понятия не имею.
Охранника, однако, мой ответ не смутил, и он сам написал в соответствующую графу цифру "58" — зловещее число, синоним контрреволюционной деятельности. Охранник вытряхнул содержимое моего рюкзака на высокий стол и тщательно, со знанием дела осматривал его.
— Раздевайтесь! — последовала команда.
Я снял свитер, рубашку, брюки, обувь. Охранник выворачивал карманы, отобрал ремень, бумажник с деньгами, отрезал лямки рюкзака и заставил вытащить шнурки из ботинок.
— Потом получите квитанцию,— буркнул ом.— Снимите трусы! Он начинает обследовать меня, как врач-венеролог на профосмотре. Проверяет мои волосы, уши, заставляет открыть рот и высунуть язык.
Когда я встал перед ним нагой как Адам перед грехопадением, последовала новая, несколько странная для меня команда:
— Делайте приседания!
— Приседания?
— Да, да. Быстро!
Я сделал три приседания, после чего последовала еще одна команда:
— Раздвигайте ягодицы руками!
Только сейчас я понял смысл этих упражнений, но мой кишечник был пуст и не содержал ни иностранных банкнот, ни наркотиков, ни тайных записок и листовок.
После этой процедуры сняли отпечатки пальцев, а затем взвесили. Я встал на весы, а краснощекий охранник с тупой физиономией, одетый в белый халат, записывал результаты, а затем приказал:
— Слезай!
Я остался на месте.— Вы, вероятно, хотели сказать: слезайте! — обратился я к нему. — Охранник сделал круглые глаза от удивления. Я не двинулся с места.
— Слезай! — Он, видимо, не понял, что я от него хотел.
— Мы с вами свиней не пасли,— продолжал я,— и поэтому прошу вас называть меня на «вы».
— Тоже мне антиллигенция,— охранник зло выругался и сильным ударом в спину столкнул меня с весов. — По морде захотел? Этова можно.
Я понял, что бесполезно строить из себя гордого человека. В этой тюрьме подобное поведение может вызвать лишь презрительную улыбку.
Меня перевели в небольшую камеру, в которой уже находилось восемь арестованных.
Я поздоровался и положил рюкзак на пол.
— Откуда? — спросил меня человек с черной бородой.
— Из Москвы. А вы откуда?
— Из Подольска. Утром арестовали, прямо на службе. Так и не простился с женой и детьми. Дети были еще в школе, а жена на работе.
В это время открылась дверь и человек в форме рявкнул:
— Всем выходить с вещами!
Нас повели в баню. В предбаннике разделись, а вещи сдали для «прожарки». Мылись в просторной душевой, где столпились больше ста человек. Какие здесь только не встречались люди: мускулистые и толстые, чахоточные и горбатые, большого роста и маленькие. Были больные псориазом, сплошь покрытые розоватыми пятнами с мелкими серебристо-белыми чешуйками, участники войн с глубокими, зарубцевавшимися ранами, калеки, слепые... Меня окликнули. Оказывается, и здесь можно встретить знакомых, причем сразу троих. Все мы учились когда-то вместе в немецкой школе им. Карла Либкнехта. То, что они очутились в тюрьме, меня удивило, поскольку они были детьми убежденных коммунистов-антифашистов. Отец Хубачека — член австрийского шуцбумда, был участником февральского вооруженного восстания в Флоридсдорфе (Вена) против фашистской диктатуры Допьфуса (1934 г.) После подавления восстания эмигрировал в Советский Союз. Родители Деграфа и Маддалены были известными немецкими коммунистами. Отец последнего — функционер германской компартии — был в 1935 г. арестован в Берлине и умер в 1943 г. в каторжной тюрьме.
Вряд ли эти ребята могли симпатизировать фашистам. Так думал я. Сотрудники НКВД считали иначе, или, точнее, вынуждены были найти врагов, или, если не удастся, придумать их.
Еще в 1937 г. группа юношей — детей видных немецких коммунистов, в т. ч. и бывших учеников школы им. К. Либкнехта (Москва) — была арестована якобы за принадлежность к молодежной фашистской организации. Вскоре трое из них 15 мая 1938 г. были отпущены — Ганс Беймлер *, Оттмар Лутц и Макс Маддалена. Был слух, что они согласились (под давлением) вести слежку за видными деятелями компартии Германии В. Пика и В. Флорина. И вот, спустя три года, Маддалена вновь очутился за решеткой.
Хубачек имел на редкость красивое лицо с очень тонкими, правильными чертами, но на нем лежала печать порока.
Он прохаживался по душевой с независимым видом и, как мне показалось, чувствовал себя в этой обстановке словно рыба в воде.
Разговаривать долго не пришлось, т. к. охранники нас торопили, но одно я выяснил: никто из нашей четверки не знал, за какие «заслуги» он угодил сюда.
После душа нам вернули одежду, которую мы надели на мокрое тело. До этого парикмахер с удивительной быстротой лишил нас растительности.
В камере, где находились наши вещи, мы не задерживались. Не прошло и десяти минут, как вновь загремел замок, и открылась дверь.— Выходите с вещами!
Мы перешли в другой корпус, а затем поднялись по лестнице. Между этажами были заботливо навешены металлические сети. А вдруг кому-то захочется спрыгнуть вниз? Дальше шли по широкому коридору. Середину его, от потолка до пола, загораживала большая железная решетка с дверцей. Около нее сидел надзиратель. Он открыл ключом замок двери и пропустил нас в свою половину, откуда, словно рукава широкой реки, расходились узкие коридорчики с камерами. В одну из этих камер меня и поместили.
Камера по своим размерам больше походила на «одиночку», но в ней уже расположились восемь арестованных.
Я огляделся. Пол был покрыт листами фанеры, в углу, рядом с дверью, стояла небольшая металлическая параша. Вдоль одной из стен аккуратно были застелены матрацы, на которых сидели заключенные. Двое из них играли в шашки, остальные читали книги.
* Г. Беймпер — известный немецкий коммунист. Бывший член правительства Баварской Советской Республики (1919 г.) Совершил побег из фашистского концентрационного лагеря «Дахау». Воевал в Испании в качестве попиткомиссара 1-й интернациональной бригады им. Э. Тельмана. Погиб в боях за Мадрид (1936 г.)
Сын М. Маддалены был осужден Особым Совещанием НКВД СССР 10 июля 1942 г. за антисоветскую агитацию. Скончался спустя четыре дня в тюремной больнице.
Я поздоровался. Последовали обычные вопросы: откуда, когда посадили, где работал?.. Затем представились обитатели камеры. Леманн, Шефер, Рихтер, Кречманм, Фогель, Фишер, Шнейдер, Науманн... все немецкие фамилии. Общество оказалось солидное — инженеры, агрономы, учителя, бухгалтеры... Все они были арестованы в последние две недели и уже познакомились с тюремной жизнью и ее порядками.
Шефер, бухгалтер из Хортицы, познакомил меня с распорядком дня.
— Подъем в шесть часов, отбой в десять вечера. Сразу после подъема надо сворачивать матрац. Лежать днем не разрешается. Надзиратель предупреждает лишь один раз.
— А что будет потом, т. е. вместо второго предупреждения? — заинтересовался я.
— Карцер. Триста грамм хлеба и холодная вода. Да, совсем забыли, параша служит лишь для малой нужды. На оправку водят два раза в день — утром и вечером.
— А как с питанием?
— Утром 450 граммов хлеба, кипяток и кусок сахара. В обед и ужин пол-литра жидкого супа и кипяток.
— Не жирно.
— Да, любить не захочешь.
Вскоре принесли ужин. Я уже проголодался и быстро выхлебал довольно постный суп с несколькими лапшинками.
Я обратил внимание, что надзиратель регулярно, через каждые 10-15 минут, наблюдал за нами через глазок. Он не просто сидел в коридоре, а неслышно двигался взад и вперед по мягкой дорожке, поочередно открывая то один, то другой глазок. Если кто-то сидя задремал, следовал резкий удар ключом по двери и окрик:
— Последний раз предупреждаю, спать днем запрещается!
Я очень утомился после богатого событиями дня и обрадовался, когда объявили отбой. Заснул почти сразу, но вскоре был разбужен громким скрежетом дверей. Простуженный голос спрашивал:
— Кто на букву «Л»? Я назвал свою фамилию.
— Нет. Есть еще кто-нибудь на «Л»?
Леманн, очень интеллигентный учитель с черной бородкой клинышком, назвал себя.
— Одевайся и выходи!
Его увели на допрос, а я вновь заснул крепким сном.
— Подъем! — Это был голос надзирателя. Быстро свернули матрацы и оделись.
Открылась дверь.— Берите! — У порога стояло ведро с водой. Рихтер вскочил и поставил его в камеру. Начался утренний туалет. Мылись из кружки, помогая друг другу.
— Сейчас поведут на оправку,— объяснил мне Фишер, средних лет учитель немецкого языка из Подольска.
Действительно, не прошло и десяти минут, как нас повели по длинному коридору, в конце которого находилась уборная. Это было примитивное помещение без кабин. Пока один занимался своим делом, другой стоял перед ним и нетерпеливо ждал свою очередь. Надзиратель торопил. Мне стоило большого труда пересилить себя. Когда стоят «над душой», у меня ничего не получается.
Наступило время завтрака, или, как его часто называли заключенные,— «блаженный миг». Каждый получил свою «кровную» пайку — 450 граммов хлеба, кусочек сахара и жидкий чай.
Не забыли также и о нашем культурном отдыхе — предлагали книги, шахматы, шашки и домино. Мне достался огромный фолиант страниц более чем на тысячу: избранные сочинения графа Льва Толстого. Многие из них мне уже были знакомы, в том числе и по школе, но одно дело читать в обычных условиях, другое — в тюрьме. Это особенно касается таких произведений как «Воскресение», «Отец Сергий», «Власть тьмы» и другие. Там есть, над чем задуматься, и невольно появляется желание провести параллели.
О тюрьмах, каторге и концентрационных лагерях было написано немало романов, повестей и рассказов, и каждый автор по-своему освещал их. Герои этих произведений были осуждены за убийство, грабеж, воровство или за политические взгляды, но все они знали причины своего ареста. Мы же, девять мужчин, сидящих в этой камере, ломали себе голову над вопросом, почему оказались за решеткой.
— Вероятнее всего, из-за того, что мы — немцы,— рассуждал агроном из Егорьевска Рихтер.— Неясно только, почему нас взяли, а другие остались на свободе?
— У вас есть родственники за границей? — спросил Леманн.
— Пожалуй, нет, если не считать отдаленного родственника со стороны жены.
— Он живет в Германии?
— Да.
— Вы с ним переписывались?
— Два раза в год посылали ему поздравительные открытки.
— Все понятно.
— А именно что?
— Что у вас связь с заграницей.
— Какая это связь — две открытки в год?
— А кто вас знает. Может быть, вы использовали для переписки еще другие каналы?
— Чепуха.
— Возможно, но попробуйте доказать обратное.
— Это никто не может.
— Вот в этом-то и все дело. Помните анекдот с зайцем и верблюдами?
— Не припоминаю.
— Так вот: бежит заяц через лес, словно черти за ним гонятся. Его спрашивают: — куда ты, косой, так спешишь? Он отвечает: а вы не читали объявление, что завтра верблюдам отрежут яйца? — Но ты же не верблюд,— отвечают ему.— А попробуй доказать, что ты не верблюд, когда тебе отрезали яйца.
— Мы с вами как зайцы в этом анекдоте.
— А вы сами как очутились здесь? — спросил в свою очередь Рихтер,— наверно, у вас тоже родственники в Германии?
— Нет, но несколько лет тому назад моими соседями по квартире оказались немецкие специалисты. Вы, наверно, помните, что в конце двадцатых — начале тридцатых годов к нам приезжало много инженеров и квалифицированных рабочих, главным образом из Германии и Америки?
— Да, и ваши соседи, конечно, вернулись потом в Германию?
— Совершенно верно.
— И вы с ними, вероятно, переписывались?
— Нет.
— Значит, всякие обвинения отпадают?
— Ничего подобного. Меня уже допрашивали и требовали чистосердечно признаться в своей преступной связи с этими специалистами.
— И как вы реагировали на это?
— Конечно, отрицал все обвинения, но как я мог доказать свою невиновность?
Оказалось, что и у остальных обитателей камеры положение было сходное. У Фогеля родственники выезжали в голодный 1929 год в Канаду, Кречманн был несколько лет тому назад в служебной командировке в Германии, Шефер дружил с немецкими антифашистами...
От последнего я впервые узнал об указе Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья».
— Это же чушь, бред сивой кобылы,— возмутился я.— Откуда могли быть в республике немцев Поволжья десятки тысяч шпионов и диверсантов, когда там проживало всего 400 тысяч немцев? Прикиньте — под десятками тысяч подразумевается, конечно, не десять тысяч, а минимум 20 тысяч шпионов и диверсантов. Это на население в 400 тысяч человек, из которых две трети дети до 15 лет, женщины и старики. Выходит, что каждый шестой-седьмой мужчина был шпионом или диверсантом. Такого еще не было в истории. Еще одно непонятно: если было известно о существовании такого большого количества врагов — почему их не арестовали, а оставили на свободе?
— Вы ищете логику? — прервал меня Леманн,— в наших указах вы ее не найдете. И в наших обвинениях, которые нам предъявляют, ее тоже нет. Вас могут обвинить в чем угодно: что хотели организовать лунное затмение во время майской демонстрации, прорыть подземный ход в Кремль, чтобы уничтожить членов политбюро, или, поскольку вы врач, попытаться кастрировать виднейших представителей нашей компартии и правительства. А на вопрос Рихтера, почему нас арестовали, а других оставили на свободе, четко говорит один из приказов, что состоящий на оперативном учете НКВД антисоветский и сомнительный элемент следует арестовать. Вот и мы являемся такими.
После обеда нас вывели на прогулку. Двор тюрьмы был разделен кирпичными стенами на небольшие, изолированные друг от друга квадраты, внутри которых заключенные ходили по кругу, держа руки за спиной.
В этот же вечер, вскоре после отбоя, мы были разбужены воем сирены, оповещающей воздушную тревогу, после которой начался страшный грохот. Задребезжали стекла, и здание тюрьмы содрогнулось. Видимо, одна из бомб, сброшенная фашистскими летчиками, упала недалеко.
В этом мы убедились на следующее утро во время оправки. Окна уборной оказались без «намордников» (щитов, закрывающих окна), и хорошо просматривался расположенный напротив пятиэтажный жилой дом. от которого осталась лишь задняя половина. Бомба разрезала дом пополам от пятого до первого этажа, словно острый нож, обнажив расположение квартир как на гигантском макете. Были видны кухни, санузлы, комнаты с мебелью...
— М-да,— сказал Леманн,— еще немножко, и бомба угодила бы в наше обиталище. Интересно — вы бы разбежались?
— Без документов? Да и наголо постриженные...— Фогель засмеялся.— Бесполезная затея, когда на каждом перекрестке останавливают и проверяют документы.
На третий день пребывания в камере надзиратель пришел за мной.
— Выходи! — рявкнул он.
Мы спустились в подвал. «Зачем?» — подумал я, и стало страшно.
Прошли по широкому коридору с цементным полом, по бокам которого были какие-то камеры.
В одну из них меня и поместили. Это было пустое помещение — каменный мешок, размером примерно три на три метра, без окон. Для чего оно служило, мне было непонятно. Может быть, чтобы пытать людей? Здесь, за этими толстыми стенами, никто ничего не услышит. Я готовился к худшему. Сесть было не на что, и я с тревогой ходил взад и вперед по камере.
Прошло около часа, который показался мне вечностью. Наконец, загремел засов, и дверь в камеру открылась.
— Пошли! — последовала команда.
Меня привели в другое небольшое помещение, которое оказалось фотографией. Сразу стало легче на душе. Фотограф, неопределенного возраста мужчина, одетый почему-то в белый халат, рукой показал мне на табуретку, которая стояла в середине комнаты.
— Садитесь,— сказал он почти вежливым тоном и сделал два снимка: в профиль и анфас.
— Можете идти,— фотограф записал что-то на бумажке и отпустил меня. Конечно, не одного, а вместе с охранником, который стоял около двери.
Дни проходили медленно, тоскливо и однообразно. Один день, как другой: завтрак, оправка, обед, прогулка, оправка, ужин, отбой. Изредка вызывали на допрос Леманна, Шефера и Фогеля, а нас остальных, видимо, забыли.
Мы с упоением читали книги и азартно играли в домино, а ближе к вечеру беседовали, вспоминали прошлое. Не последнее место в наших разговорах занимали женщины. Я был самым младшим в камере, и не мог похвалиться громкими победами на этом фронте, зато остальные обладали богатым опытом и могли часами рассказывать о своих амурных похождениях.
О допросах говорили мало и скупо, и очень редко делились своими переживаниями.
— Это же черт знает что,— возмутился однажды Шефер,— я раньше всегда думал, что следователь должен предъявить арестованному какие-то обвинения, основанные на неопровержимых фактах, а мой, как попугай, только повторяет: расскажи о своей преступной деятельности. А я что могу сказать?
Допрос — Петер Донцов
В тот вечер снова была объявлена воздушная тревога, зенитки, захлебываясь, стреляли, и трассирующие пули освещали темное небо.
Я как раз сражался в шашки с Фогелем, когда неслышно открыли дверь. Зазвучал знакомый вопрос: — Кто здесь на букву «Л»?
Леманн назвал себя. Но на этот раз вызывали на допрос меня. Комната следователя находилась на первом этаже и была скромно обставлена. Единственным украшением ее служили портрет Феликса Дзержинского и бюст «великого вождя народов». Следователю на вид было около тридцати лет. Он сидел за письменным столом свежевыбритый и распространял назойливый запах стандартного мужского одеколона «Шипр». В трех метрах от стола стоял стул. Он был приготовлен для меня. Я обязан был сидеть на нем как примерный школьник: ноги вместе и руки на коленях, по причинам «техники безопасности». Кто знает — а вдруг у меня появится желание использовать тяжелый пресс-папье в качестве метательного орудия?
— Вот, оказывается, какой ты,— фамильярным тоном произнес следователь и бросил на меня насмешливый взгляд.— Наверно, знаешь, зачем попал сюда?
— Понятия не имею.
— Вот как? А сколько дней находишься в тюрьме?
— Шесть дней.
— По-моему, достаточное время для размышления. Так вот что — слушай внимательно. Здесь листки бумаги, а здесь ручка и чернила. Садись там в углу за стол и напиши мне сначала подробно о своих связях. О связях в нашей стране и Германии, в прошлом и сейчас.
— О каких связях?
— Конечно, не любовных,— следователь криво улыбнулся.— Если хочешь знать, мы о тебе прекрасно информированы, и нам известен каждый твой шаг. Но нас сейчас интересует другое — а именно, насколько ты осознал свою вину перед нашим государством, партией и народом. Ты молодой, жизнь еще не вся потеряна, и искреннее раскаяние во многом может облегчить твою судьбу и смягчить приговор. Не забудь — сейчас война.
— Но я не чувствую за собой вины. Преступления я не совершил. О чем я должен писать?
— Ах, ты не знаешь? Выходит, память у тебя дырявая. Хорошо, тогда я напомню тебе кое о чем и подскажу что писать. Хотя бы о том, как ты стал членом буржуазной молодежной организации или о своем друге, который служит в фашистской армии. Понятно? А сейчас пошевели мозгами. Пока не напишешь — не уйдешь. Сиди хоть до утра. Я не спешу.
Здравый ум подсказывал мне, что бояться, собственно говоря, нечего, т. к. Германию я покинул в возрасте неполных четырнадцати лет. А что можно потребовать от несовершеннолетнего мальчика, который не по своей воле воспитывался в буржуазной среде? Я не занимался политикой, не вел антисоветскую пропаганду, и единственным моим грехом была переписка. В тридцатые годы каждый, кто вел корреспонденцию с фашистской Германией, считался подозрительным и потенциально опасным, и отчим и мать даже запретили мне писать письма в Берлин. Тогда я переадресовал свою почту и стал ее получать «до востребования». Мой нравственный долг обязывал меня писать, даже если это грозило тяжелыми последствиями. Для этого были причины.
Я родился в 1918 году в Николаеве в семье инженера-конструктора подводных лодок (подданного США), который по контракту работал на судоверфи. Когда началась революция, отец вынужден был покинуть Россию и на греческом крейсере перебрался сначала в Константинополь, а оттуда в Голландию. Мать также пыталась выехать, но незадолго до отплытия парохода с беженцами из Новороссийска заболела тифом. Когда она выздоровела, город оказался в руках «красных», и путь в Константинополь был закрыт.
Мать не оставила надежду встретиться с отцом, но решила сначала временно устроиться в Москве. Это, однако, оказалось очень трудной задачей, т. к. транспорт в то время был почти полностью парализован. Но повезло. Друзья устроили ей место в бронепоезде, и она благополучно прибыла в Москву. Некоторое время работала в Коминтерне, а затем, окольными путями, через Ригу, перешла границу.
Неудача случилась с деньгами. Мать захватила с собой довольно крупную сумму — десять тысяч немецких марок, но за время скитания по Прибалтике они обесценились. Германию потрясла жесточайшая инфляция.
Много пришлось пережить — холод, голод и всякие лишения, перед тем как нам удалось достичь Голландии.
Отец находился тогда в маленьком портовом городке Флиссингене, и здесь мы прожили с ним около года. К сожалению, родители не нашли между собой общего языка и разошлись.
Несколько позже мать устроилась в Советском торгпредстве в Берлине, и мы переехали туда. Здесь занимали комнату в частной квартире у двух замечательных женщин, матери и дочери — Беттине и Катерине фон Зейдлиц-Курцбах. Их предком был знаменитый прусский кавалерийский генерал, который отличился в битве при Россбахе, во время Семилетней войны.
Катерина, в прошлом камерная певица, своей внешностью напоминала вагнеровскую валькирию. Это была статная женщина с огненно-рыжими, роскошными волосами, которая отличалась необыкновенной добротой и порядочностью. Меня она полюбила с первого дня. Моя мать вскоре вышла замуж за сотрудника Советского торгпредства Григория Александровича Раппопорта, которого несколько позже перевели в Копенгаген. Меня же оставили на воспитание в Берлине у Катерины фон Зейдлиц, где я и прожил до 1932 года.
Трудно сказать, кого я тогда больше любил: мать или ее, Таите Кете, свою приемную мать. Она учила меня относиться с уважением ко всем людям, независимо от их национальности, политических взглядов и религиозной принадлежности. Она учила меня быть аккуратным, вежливым и честным, требовала, чтобы я всегда держал слово, и если из меня вышел человек, то это была исключительно ее заслуга.
Десять лет она заменяла мне мать, и вполне естественно, что я считал себя обязанным дать о себе знать. И поэтому, не боясь возможных последствий, отправлял письма в Берлин.
Несколько слов о моем главном друге: Вильгельм Бейер был сыном очень состоятельных родителей. Отец занимал видное положение в государственной прокуратуре, а мать в прошлом была тесно связана с императорским двором.
Крестным отцом Вилли оказался не кто иной, как реакционнейший генерал и политик Эрих Людендорф, руководивший в 1916—1918 гг. всеми вооруженными силами Германии. Он же был одним из руководителей (вместе с А. Гитлером) путча в Мюнхене (1923 г.)
Я дружил с Бейером еще с первого класса, и мы вместе играли в одной футбольной команде. Вилли учился в гуманитарной гимназии, но выбрал после ее окончания совсем иной путь и перешел в Рейхсвер. Он принимал участие в войне с Польшей, и был награжден железным крестом второго класса.
Мы были с ним очень дружны, и все свободное время проводили вместе. В то время существовали бесчисленные молодежные организации самых различных политических направлений, руководители которых прямо на улице вербовали своих членов. К нам они также приставали, даже ходили на дом, но у нас были другие интересы. Мы занимались спортом и в первую очередь играли в футбол.
Когда нам исполнилось по десять лет, мы были зачислены в детскую футбольную команду общества «Пройссен» (Пруссия) и каждое воскресенье играли то на одном, то на другом стадионе Берлина, участвуя в первенстве города.
«Пройссен» принадлежал к тем буржуазным спортивным клубам, которые считали себя вне политики, но почему-то доступ туда евреям был закрыт.
Следователь, однако, имел в виду не спортивное общество, а молодежную организацию определенного направления, и был убежден, что я состоял ее членом. Видимо, кто-то дал ему не совсем точную информацию и спутал буржуазный спортивный клуб с молодежной организацией.
В институте я ни с кем не говорил на эту тему, да и в школе не вспоминал о своем прошлом. Пожалуй, лишь двое из моих друзей знали почти все обо мне. Это были братья Петер и Пауль Донцовы, с которыми я учился в немецкой школе им. К. Либкнехта.
Их отец, в прошлом известный меньшевик, находился долго в Швейцарии, в эмиграции, где неоднократно встречался с Лениным. Он работал в двадцатых годах в Берлине, а затем вернулся в Советский Союз.
Жили они в страшной бедности, в ветхой избе, в Сходне, недалеко от Москвы.
Петер стал моим лучшим другом. Это был мальчик ниже среднего роста, со сравнительно крупной головой и короткими ногами. Он никогда не расставался с кирпичного цвета брезентовой сумочкой, которую носил через плечо. В нее он собирал кусочки хлеба, оставшиеся в школьной столовой после обеда.
Петер был очень развитый мальчик, так же как и я увлекался рисованием и писал стихи. Иногда он оставался у меня дома на несколько дней, и моя мать всегда старалась получше покормить его.
Он не пользовался успехом у девушек и был по уши влюблен в пышногрудую блондинку Люсю Ангерт, но эта любовь оказалась без взаимности. Мой друг тяжело переживал, и любовь к этой девушке постепенно превратилась в лютую ненависть, которую Петер выразил стихами-памфлетами.
Он стал замкнутым, увлекался философией, много писал. В его дневниках красной нитью проходило чувство зависти к тем, кто был стройнее и красивее его и лучше обеспечен материально. Всех этих молодых ребят, в том числе и меня, он считал неполноценными, т. к. мы не испытали нужду и не знали цену хлеба. В его глазах мы были буржуа, поскольку жили благоустроенно и сыто.
Он пришел к выводу о несправедливости нашей жизни, если такие как он — передовые, умные и политически грамотные люди живут в бедности, тогда как барские сыночки не знают забот.
Постепенно эти взгляды получили политическую окраску, о чем я узнал совершенно случайно.
В зимние каникулы старшие классы нашей школы, в т. ч. и мы с Петером, отдыхали в старинном особняке в Ленинских Горках. В то время, когда большинство школьников проводило время на катке или занималось лыжами, Петер отсиживался в комнате и писал. Толстую тетрадь с записями он всегда прятал под подушку, когда отправлялся в столовую или на короткую прогулку. Кто-то, видимо, заглянул в эту тетрадь, и вскоре распространился слух, что в ней написана странная чепуха и кое-что обо мне.
И вот, однажды, после обеда, когда Петер пошел в читальню, я достал тетрадь из-под подушки и стал ее читать. То, что Петер писал обо мне, было повторением того, что я уже знал. По его словам, я не заслужил тех благ, которые имею, т. к. не пользуюсь ими, как следовало бы. На моем месте он бы поступил иначе, приобрел бы необходимые книги для образования и т. д.
Но главное в этих записях было совершенно другое. Мой бывший друг, иначе я его уже не мог назвать, пришел к выводу, что революция остановилась на полпути и не доведена до конца. «Мы, титаны, пойдем дальше,— писал он,— и если потребуется, через трупы своих врагов. Это будет тяжелая борьба, но мы победим в этой революции. А возглавлять ее буду я».
Это была для меня уже новость. Петер — вождь революции и титан. Вот тогда я и вспомнил, что мать Петера и Пауля умерла в психиатрической лечебнице в Цюрихе. Видимо, наследственность дала о себе знать.
Петер стал мрачным, и добродушное лицо его приняло озлобленное выражение. Особенно поражал взгляд — взгляд исступленного фанатика, готового не только идти на костер за свои убеждения, но также и сжечь своих противников. На людей он смотрел лишь изредка и только исподлобья.
Однажды на уроке истории, который вел учитель Бенц, шел разговор об Октябрьской революции.
— Кто хочет высказаться? — спросил Бенц.
— Я, — Петер поднял руку.
— Пожалуйста.
— Я должен сказать, что большевики остановились на полпути, и революция не была доведена до конца. Эту задачу будут выполнять титаны, руководителем которых стану я. Жертвы нас смущать не будут.
— Что? — учитель сделал большие глаза.— Я тебя что-то не понимаю. Повтори!
Петер повторил свои высказывания. Несколько дней спустя его отправили в психиатрическую клинику с диагнозом «шизофрения».
Я встретил Петера через год, когда его выписали из клиники. Он был явно смущен.
— Ты прости меня,— сказал он,— я сейчас сам прекрасно понимаю, что натворил, и меня страшно мучит совесть. Особенно я виноват перед отцом. Понимаешь, во время болезни я донес на него, и его арестовали. Да и о тебе я кое-что говорил.
Вот сейчас я понял, откуда черпал свои сведения следователь. Я взял ручку и после небольшого раздумья начал писать. Объяснил, что был членом футбольного клуба, а не молодежной организации, и подробно описал свою дружбу с Вильгельмом Бейером.
Опасаясь подделки, не начинал с новой строки, пока полностью не заполнил предыдущую. Бывали случаи, когда следователи сами дописывали ее и таким образом решали участь заключенного, но не в его пользу.
Следователь бегло прочитал мою запись, сморщил недовольно лицо и вызвал конвоира.
— Отведите его обратно в камеру! — приказал он. Долго спать не пришлось. На допросе я находился не менее пяти часов, и до подъема оставалось немного времени.
День прошел мучительно тяжело, и я с великим трудом боролся со сном. Когда силы уже были на исходе, попытался схитрить и сделал вид, что читаю. Повернулся спиной к двери, положил книгу на колени и закрыл глаза. Меня разбудил резкий удар ключа по двери.
— Что сидишь, как сонная муха,— рявкнул надзиратель,— повернись сюда лицом! Знаем мы ваши фокусы.
Пришлось облить голову водой, чтобы немного разогнать сон. Ночью, после отбоя, меня вновь вызвали на допрос. Следователь встретил меня саркастической улыбкой.
— Прибыл? Выспался? Не очень? Сам виноват. Надо было бы чистосердечно признаться в своих преступных действиях. А ты упорствуешь. Тем хуже для тебя. Сейчас военное время, и некогда нам возиться долго с такими упрямыми типами, как ты. Знаешь, что Горький сказал о врагах?
— Знаю.
— А что он сказал?
— Если враг не сдается, его уничтожают.
— Правильно. А ты, оказывается. Горького читал. Тогда запомни — мы будем действовать именно так, а не иначе. Сам решай, как поступить, если жизнь надоела — сиди и молчи.
Впервые по-настоящему я понял тяжесть своего положения, и мне стало страшно. Не надо было быть ясновидцем, чтобы представить себе возможные последствия. О том, что в подобных заведениях не шутят, я знал хорошо, и наглядным примером тому была судьба отчима и братьев матери, которые были расстреляны в 1938 году.
Я нисколько не сомневался в том, что следователь говорил правду, и что он был готов, не моргнув глазом, осуществить свою угрозу. Стало жарко, и мелкие капельки пота появились на лбу. В двадцать два года не хочется умирать.
Следователь вытащил из кармана пачку папирос и, не спеша, закурил.
— Куришь? — спросил он.
— Нет.
— Хочешь дольше жить? Боюсь, что своим упрямством ты себе значительно больше укоротишь жизнь, чем табаком.
Он глубоко затянулся, а затем продолжал:
— Твоя вчерашняя писанина ничего не стоит. Грош ей цена. Все это было нам давно известно. Мы ждем от тебя, чтобы ты чистосердечно признал свою вину, но пока этого не видно.
— А в чем заключается моя вина?
— Сам должен знать. Вспомни хотя бы время, когда учился в немецкой школе им. К. Либкнехта и ходил в клуб иностранных рабочих на улице Герцена. У тебя были там друзья. Напиши о них. Вот тебе лист бумаги.
Школа имени К. Либкнехта
Когда я прибыл в Москву в 1932 году, эта школа размещалась в небольшом здании на Садовой, в непосредственной близости от улицы Кирова. Собственно говоря, здесь были две школы — немецкая и англоамериканская. Последняя занимала лишь несколько классовых помещений, в которых обучались дети иностранных специалистов, в основном из США.
Гораздо разношерстное был состав немецкой школы. Здесь можно было встретить детей немцев Поволжья, политэмигрантов не только из Германии, но также Румынии, Болгарии и Венгрии, учащихся еврейской национальности, детей советских специалистов и работников Наркомвнеш-торга, долго работающих за границей, детей немецких специалистов и других. С приходом к власти Гитлера в 1933 году прибавились дети немецких антифашистов, а в 1934 году, после февральского восстания в Флоридсдорфе, дети австрийских шуцбундовцев.
В моем классе добрая половина учеников была еврейской национальности, родители которых когда-то работали в Германии или же просто хотели, чтобы их дети изучали немецкий язык.
Когда я прибыл в Советский Союз, то сначала ужаснулся. Плохо одетые люди, очереди перед хлебными магазинами, карточная система, до отказа переполненные трамваи, беспризорные — все это произвело на меня удручающее впечатление после благоустроенной и сытой жизни, которую я вел в Германии.
Квартиры у нас в Москве не было, и каждые пять-шесть месяцев мы меняли место жительства. Сначала устроились месяца на четыре в гостинице «Новомосковская», затем переехали на Усачевку, после этого обосновались почти на год в хорошей квартире в Петровском переулке, а потом становилось все хуже и хуже.
Родители сняли, в конце концов, комнату в Уланском переулке, а я странствовал по Москве, то жил у Александра — брата отчима, то у дяди Степана. Особенно неловко я чувствовал себя у брата отчима, очень приличного и интеллигентного человека, который жил с молодой женой-узбечкой в малюсенькой комнатушке площадью не более десяти-двенадцати квадратных метров. Представляю, как я им мешал.
Однажды отчим направил меня к своему старшему брату, довольно известному писателю Василию Регинину, у которого была большая, великолепная квартира около Красных ворот.
— Тебе придется жить у него некоторое время, пока не найдем другое место,— сказал отчим,— места у брата хватит, и обо всем я с ним уже договорился.
Я был уже однажды на квартире у Регинина, которую он занимал с дочерью довольно эксцентричной молодой женщиной.
Квартира мне понравилась. Она была очень уютная, но царил страшный беспорядок. Меня особенно привлекало множество антикварных вещей, которые когда-то Регинин привез из Египта — каменные скарабеи, фигуры богов, сосуды, украшения и т. п.
Регинин еще до революции посетил Египет, и там случилась с ним необычная история. Недалеко от пирамиды Хеопса араб-проводник хотел его убить с целью ограбления, но Регинин обезоружил его. Преступника судили по шариату, и вся деревня, в которой он проживал, обязана была заплатить штраф потерпевшему.
Регинину принесли большое количество уникальных вещей, которые были найдены жителями во время раскопок, в т. ч. и саркофаг с мумией фараона. Основные экспонаты Регинин передал в Эрмитаж, а мелочь оставил себе.
Я отправился к Василию Александровичу с маленьким чемоданом, в котором были учебники и белье. Он встретил меня по-дружески, посадил в кресло, угощал чаем с конфетами. Беседовали часа три. Я ждал, когда он заговорит о моем переезде к нему, но Регинин эту тему не затрагивал. Когда стрелки часов подошли к десяти вечера, мне ничего не оставалось, как встать и уйти. Я взял свой чемоданчик и попрощался с «гостеприимными» хозяевами. Регинин меня не задерживал.
Вот тогда я и понял, что братья бывают разные: один нашел для меня местечко в своей малюсенькой каморке, иначе не назовешь эту комнату, другой не нашел его в просторной квартире
В школе им. К. Либкнехта все было совершенно по-иному, чем в Германии, и меня особенно поразило то обстоятельство, что девушки и мальчики учились вместе в одном классе. Девушки волновали меня и смущали. Они могли волновать не только меня, хотя им было не больше четырнадцати лет. Зато они обладали уже весьма пышными формами. Правда, у двух-трех из них округлости были развиты сверх нормы, и это мешало им особенно во время занятии физкультурой.
Смущаться приходилось часто и главным образом на уроках математики и химии. Не очень ловко, когда стоишь перед учителем и не можешь ответить на его вопросы. А в это время глаза всех мальчиков и девушек направлены на тебя. И подсказка не помогает, когда не знаешь предмет.
Гуманитарные науки давались мне легко, и я нередко мог блеснуть своими познаниями в области литературы и истории, но зато безнадежно «плавал» на уроках геометрии, алгебры, физики и химии.
Я не любил эти предметы и, главное, не мог концентрировать свое внимание во время этих уроков. Когда объясняли новую теорему, мои мысли витали где-нибудь далеко, далеко в загадочном Тибете, в пустыне Сахара или у индейцев Северной Америки.
Меня удивляло и другое в гимназии слово «политика» не употреблялось. Считалось дурным тоном затрагивать эту тему. Политикой могли заниматься в лучшем случае только взрослые, но не школьники. Между собой мы, конечно, говорили иногда о политике, но на уроках рассуждать о ней не полагалось.
Здесь же, в школе, политика касалась чуть ли не всех уроков, начиная от биологии и кончая историей. На школьных собраниях, на пионерских сборах, на встречах со старыми большевиками или антифашистами, тема была одна — политика.
Я воспитывался в буржуазной семье и, вполне естественно, не мог стать сразу убежденным сторонником коммунистических идей. То, что капитализм — система жестокая и несправедливая, с этим я был согласен, и логика подсказывала, что будущее за социализмом.
Не забыть мне годы великого кризиса 1929—30 гг. В Германии армия безработных нищих людей, приходящих в отчаяние. Помню, как мой школьный товарищ, русский эмигрант Кирилл Арнштам, со слезами на глазах вынужден был покинуть гимназию, так как родители не могли платить за учебу. А он был талантливейшим художником.
Помню, как не сдавшие экзамен на аттестат зрелости кончали самоубийством. В это же время брат Катерины фон Зейдлиц-Эрих, оставшись без работы, едва не покончил с собой. Что такое капитализм — я знал.
Но следует ли идти по тому пути, который выбрала страна, в этом я не был убежден. Плохо одетые люди, плохие жилищные условия, скудость ассортимента товаров и продуктов питания, перегруженный транспорт... не могли служить эталоном, которому следовало подражать.
Однако, пока я учился в школе, а затем в институте, в стране произошли заметные сдвиги в лучшую сторону. Была отменена карточная система, в магазинах полки ломились от продуктов, появилось метро, исчезли беспризорные, очереди... Люди были настроены оптимистически и жизнерадостно и уверены в том, что живут лучше всех на свете.
Но бросали тень на эти явные успехи жестокие карательные меры против инакомыслящих. Да и не только против них. Были осуждены Особым Совещанием НКВД СССР и разными «тройками» сотни тысяч людей, которые исчезли навсегда, получив «десять лет дальних лагерей, без права переписки», что означало — расстрел. И большинство так и не узнали, за что.
Я был воспитан в духе свободомыслия и не мог понять, и не мог примириться с тем, что людей арестовывают только за то, что у них другие взгляды, чем у руководства страны.
В школе я принимал активное участие во всех мероприятиях, был редактором стенгазеты, членом драмкружка, занимался в легкоатлетической секции, пел в хоре... единственное — никогда не выступал на собраниях и никогда не выкрикивал здравиц, как это было принято, в честь «великого вождя»
Это был своеобразный ритуал, который строго соблюдался на всех собраниях. Сначала выбирался почетный президиум во главе с товарищем Сталиным, и в связи с этим кто-то обязательно выкрикивал: «Да здравствует товарищ Сталин — вождь мирового пролетариата!». Другой подхватывал эстафету словами: «Слава гениальному руководителю...», третий находил другой вариант: «Да здравствует наш любимый отец и учитель...» и т. п. Каждый старался перещеголять других и доказать, что он душой и телом предан партии и правительству.
Я не хотел лицемерить и поэтому молчал. Вероятно, некоторые из моих одноклассников чувствовали интуитивно, что я не «свой», и, возможно, считали меня представителем буржуазии, хотя вслух об этом не говорили.
Сейчас я сидел перед следователем и напряженно размышлял над вопросом, кого же из моих знакомых по школе он подозревал? В уме стал перебирать одноклассников. Большинство из них не были в Германии или были много лет тому назад, и вряд ли они могли заинтересовать следователя.
Сравнительно недавно прибыли из-за границы лишь человек пять-шесть. Вот они: Розенцвейг — полная девушка с миловидным лицом, но твердым характером. Она эмигрировала из Румынии и люто ненавидела фашизм. Йо Кюнен — несколько угловатая плоская блондинка с голубыми глазами и острым носиком. Дочь известного немецкого писателя-антифашиста Альфреда Курелла. Юра Эльперин и Альберт Пригожий — евреи. Первый из них жил сначала в Берлине, а затем, после прихода Гитлера к власти, в Париже. Альберт прибыл из Данцига.
Юрий мечтал стать художником и посещал студию известного живописца Юона. Рисовал он, по-моему, неважно, но довольно смело работал маслом, подражая французским импрессионистам. Я очень люблю импрессионистов, но то, что создал Юрий, было сплошной мазней. А вообще это был интеллигентный, воспитанный и очень скромный парень.
Альберт был человеком другого склада и, несмотря на свою полноту, весьма подвижным. Нас тогда удивила его смелость в обращении с девушками. В разговоре с ними всегда принимали участие его руки. Они касались пальцев, плеч, талии собеседницы, гладили ее... Наши девушки смущались, а то и возмущались своеобразными манерами Альберта, который в отличие от всех нас был уже знаком со всеми интимными сторонами человеческой жизни.
С грехом пополам Альберт поступил в тот же институт, что и я, но на санитарно-гигиенический факультет. Учился он довольно посредственно, видимо, был занят не столько медициной, сколько развлечениями. Женился он рано на очень миловидной блондинке-однокурснице, но позже разошелся.
Юрий, как и Альберт, пользуясь принятой терминологией, были вполне «сознательными» советскими людьми и вне подозрения.
Остался, пожалуй, лишь Ференц Диамант. Это была довольно колоритная фигура: стройный, высокий юноша с интеллигентным лицом и тонкими семитскими чертами. Прибыл он из Венгрии. В него влюбились многие девушки, но он выбрал признанную красавицу Люсю Ангерт, в которую был влюблен мой прежний друг Петер Донцов.
Ферко никогда не выступал с громкими речами, но иногда не прочь был сделать критические замечания. Однажды на уроке истории шла речь о бедственном положении школьников в капиталистических странах. На следующий день кто-то написал мелом на доске: «В чешских школах учеников кормят бесплатно». Ходили слухи, что это сделал Ферко. Но стоило ли верить сплетням? Они и так нанесли много вреда людям.
Но что мог я писать о нем? Пожалуй, ничего. Я знал его лишь как способного ученика. А его критические замечания? То, что ему не нравилась теснота в старой школе, плохое оборудование кабинетов или примитивные туалеты?.. Мне это тоже не нравилось. Возможно, что и у Ферко были такие взгляды, как и у меня, но это сейчас не имело значения. Он был арестован не то в 1938 г., не то в 1939 г. Но взгляды его были совершенно иными, чем предполагали усердные сотрудники НКВД. Ферко искренно любил свою вторую родину, поэтому и принял советское гражданство.
В то время процветала настоящая шпиономания. Говорили, что агенты имелись и в нашей школе.
Процессы в 1936—37 гг. над «троцкистским объединенным центром», «параллельным троцкистским центром» и другими антисоветскими организациями, после которых были казнены соратники Ленина: Бухарин, Каменев, Зиновьев, Рудзутак, Серебряков... вызывали удивление.
И каждый задавал себе вопрос: как это могло случиться? Не хотелось верить, что старые, испытанные большевики вдруг стали фашистскими агентами и «превратились в беспринципную и безыдейную банду профессиональных вредителей, диверсантов, шпионов, убийц...»
Но смущало то обстоятельство, что все они признались в своих преступных действиях. Значит, они действительно были «врагами народа». Так думало в то время большинство.
Однажды мне пришлось посетить так называемые «правительственные дома» около кинотеатра «Ударник». Я был чрезвычайно поражен: почти каждая вторая квартира была запломбирована.
Мне казалось все это очень непонятным и странным. А вот когда арестовали моих близких, в невиновности которых я был уверен, тогда у меня открылись глаза, и я начал искать корни непримиримых отношений к инакомыслящим. Оказывается, Ленин еще в 1922 году в письме наркому юстиции Курскому писал: «Требуется расширить применение расстрела в частности за агитацию и пропаганду. Для этого требуется найти в уголовном кодексе формулировку, ставившую эти деяния в связи с международной буржуазией».
Ленинский проект соответствующей статьи уголовного кодекса был такой: «Пропаганда или агитация, объективно содействующая международной буржуазии, предусматривает расстрел или высылку за границу».
А что может содействовать международной буржуазии? В дальнейшем для этого было достаточно рассказать безобидный политический анекдот, как например:
— Вы слышали? Последнюю контрреволюционную организацию прикрыли.
— Какую?
— Общество старых большевиков.
Но страшнее всего было то, что, даже не открывая рот, можно было очутиться за решеткой.
Шли повальные аресты. С кем я ни встречался, с кем ни познакомился — у всех кто-то пострадал.
Однажды я познакомился с очень славной девушкой в парке «Эрмитаж». Звали ее Леной. Она слышала, как я разговаривал по-немецки со своим школьным товарищем и, когда он прощался со мной, подошла ко мне. Мы разговорились. Ее отцом оказался известный советский военный деятель Берзин. Отчим Лены — Бруно Ясенский был также знаменит. Его книга «Человек меняет кожу» пользовалась большим успехом.
Арестовали всех: Берзина, Ясенского, а также мать Лены. Сама Лена, к тому времени беременная, вынуждена была освободить прекрасную квартиру в центре города, на улице Горького, вблизи Кузнецкого моста. Ее переселили в маленькую проходную комнатку, где ей пришлось жить с грудным ребенком без всякой помощи... Все это было не исключением, а типичным явлением тех лет. А Сталин говорил: «Самый ценный капитал для нас — люди».
Здравый смысл подсказывал, что здесь творит какая-то злая сила. Новая инквизиция, готовая сокрушить, раздавить, сжить со света лучших людей. И я уже не верил словам о «врагах народа».
В школе у нас преподавала очень симпатичная молодая супружеская пара: Бруно и Изольда Крэмке, которая прибыла из Германии. Запомнилась стройная фигура Бруно и его рыжая шевелюра, а так же розовое личико и соломенного цвета волосы его супруги. Изольда преподавала у нас литературу и то и дело смущалась и краснела.
Ходили слухи, что они сотрудничали с немецкой разведкой, и якобы возвратились обратно в фашистскую Германию. Говорили, что Бруно выступал по немецкому радио. Но я уже не верил ни во что. Мало ли что люди болтают.
Интересно другое, достоверное — в приказе № 166 от 28 декабря 1936 г. по школе им. К. Либкнехта читаем: «Освободить педагогов Гершинского, Люшена, Крэмке и Брандта от занимаемой должности за невыход на работу в течение двух месяцев с 27 октября 1936 г.»
Основание: приказ директора. Времен, исп. об. директора Крамер С. В. Что за странный коллективный невыход на работу? Объяснение простое. Все они оказались арестованными. Но это была лишь первая ласточка. Вскоре последовали новые аресты, а в начале 1938 г. школа им. К. Либкнехта была закрыта.
Ровно через пять лет я очутился в тех же местах, что и мои учителя. Их называли фашистскими агентами, меня шпионом и изменником родины.
А друзья по клубу иностранных рабочих? Таких у меня не было. В этом клубе по ул. Герцена, 6 собирались разные люди. Сюда приходили иностранные рабочие и инженеры, политэмигранты и, вероятно, работники посольств. Нередко здесь выступали известные писатели-антифашисты: Вилли Бредель, Йоганнес Бехер, Эрих Вайнерт, певец Эрнст Буш, а также члены коминтерна Вильгельм Пик, Фриц Геккерт и другие.
Наведывались, конечно, и немецкие агенты, возможно, под маской антифашиста-эмигранта, шуцбундовца или специалиста, и поэтому следователь заинтересовался моими связями в этом клубе.
Обо всем этом было бессмысленно писать, но бумагу следовало чем-то заполнить. Не сидеть же здесь до утра. После недолгого раздумья решил изложить историю с Петером Донцовым, тем более, что всем была известна моя дружба с ним.
Петер был, безусловно, одним из тех, благодаря кому я очутился здесь. Он лучше всех знал мои настроения и взгляды и, главное, передал эти сведения в соответствующие органы. Я не имел права винить его или проклинать, т. к. душевнобольных не осуждают. Плохо, однако, было то, что все его сообщения или доносы принимались за чистую монету, даже те, которые он высказывал в бреду. Вот поэтому я и решил написать о Петере, чтобы снять часть обвинений, которые мне предъявили или хотели предъявить.
Я не акцентировал свое внимание на политических вопросах, а стал освещать обстоятельства его жизни, объяснять причины возникновения его болезни, описал ее течение и симптомы. Конечно, говорил также о нашей дружбе и причинах ее разрыва. Главное было доказать невменяемость Петера. В конце перечислил своих школьных товарищей, дав им положительную характеристику.
Следователь, прочитав мою запись, недовольно сморщил лоб.
— Хочешь оправдаться? Хитро придумано. Но ничего у тебя не выйдет. Все это только лишний раз доказывает, что ты не желаешь быть искренним. Вероятно, думаешь, что мы ничего не знаем о тебе? Ошибаешься. Сюда без дела никто не попадает. Запомни. А то, что ты здесь написал — история болезни, а не чистосердечное признание в своих преступных действиях.
Когда меня повели обратно вверх по лестнице, получилась небольшая заминка. Как раз навстречу шел другой заключенный с конвоиром. Сопровождающий меня надзиратель не растерялся. Он открыл дверь, которая находилась у лестничной клетки, и втолкнул меня в маленькую камеру или точнее бокс. Это было лишь небольшое пространство, позволяющее человеку только стоять. Даже согнуть колени было почти невозможно. Выпустили меня отсюда только минут через двадцать, в течение которых я чувствовал себя прескверно, словно находился в ящике.
Долго спать не пришлось, т. к. следователь продержал меня у себя, по крайней мере, часов до четырех утра. Снова весь день пришлось бороться со сном, помогая себе холодными обтираниями и т. п.
Только сейчас я понял, что это такое — не иметь возможности поспать, как следует. Это, пожалуй, похуже голода. Голод постепенно тоже давал о себе знать. В первые дни пребывания в тюрьме у всех нас, сидящих в камере, аппетит был в общем плохой, но вскоре он заговорил в полный голос. Если раньше каждый из нас думал в основном о доме и предстоящих встречах со следователем, то сейчас мысли постоянно были заняты еще и едой. Утром мы ждали с нетерпением кровную пайку, в обед и ужин мечтали о том, чтобы суп был густым и наваристым.
Мои друзья — Меня обвиняют
Вечером после отбоя меня снова вызывали к следователю. Расчет у него был довольно простой — доконать меня ежедневными допросами. Он оказался противником применения методов физического воздействия. К чему бить и пытать подследственного? Это не эстетично и может вызвать лишь нежелательные эмоции. Нервы надо беречь. В том числе и нервы следователя.
У него другой, очень простой, но эффективный метод — он заключается в том, чтобы лишить заключенного сна. Руки при этом остаются всегда чистыми. Да и совесть чиста.
А вот когда человеку не дадут спать три, четыре, пять дней, он вскоре станет совершенно иным и, главное, податливым. Ему хочется лишь одного — поскорее заснуть, и ради этого он готов на все.
Американские ученые установили экспериментальным путем, что лишение сна в течение ста двадцати часов полностью разрушает сопротивляемость внушению. Сопротивляемость внушению в таких случаях равняется нулю.
— Надеюсь,— сказал следователь,— что сегодня ты будешь разговорчивее. О школьных годах ты, видимо, не любишь вспоминать, а может быть, уже забыл о них. Оставим их пока и перейдем к другой теме. Расскажи-ка мне сначала подробно о своих друзьях по институту. Наверное, они были у тебя?
— Да.
— С кем дружил?
— С Гельмутом Лурье и Аскольдом Ляпуновым.
— Кто они, и что было у тебя общего с ними?
— Мы учились вместе в одном институте и на одном курсе. Оба они сейчас студенты пятого курса 1-го Московского медицинского института.
— А почему ты дружил именно с ними, а не с другими?
— У нас были общие увлечения. Лурье неплохо владеет немецким языком, и ему было интересно побеседовать со мной и усовершенствовать свои познания в этой области. Что касается Ляпунова, то мы оба увлекались физиологией и мечтали о совместной работе. Мы и практику проходили вместе, летом этого года в Загорске.
Оба — Гельмут и Аскольд были моими большими друзьями. Они отличались друг от друга не только внешним видом, но и внутренним содержанием. Гельмут обладал хрупким телосложением и одевался всегда весьма изысканно. Любил черный костюм, белую манишку и бабочку. Лицо было характерное — очень узкое, с тонким изогнутым семитским носом и довольно толстыми губами.
Мать его была еврейкой, но это не помешало Гельмуту высказывать антисемитские взгляды. Самым большим оскорблением для него был намек на то, что он вылитый еврей. Десятки раз он спрашивал меня, «Не правда ли, я не похож на еврея?» — и радовался как ребенок, когда я ему отвечал: нет».
Гельмут был Дон Жуаном высшей марки, но мне всегда казалось, что он больше гнался за количеством, чем за качеством. Ом спешил жить, словно знал, что осталось немного побыть на этом свете. Ко мне он относился с большой нежностью, и взгляды наши во многом совпадали.
Аскольд был скроен плотнее. Симпатичное, славное, интеллигентное лицо, добрые карие глаза, коротко стриженные, черные кучерявые волосы. Он был всегда одет несколько неряшливо и не следил за своим внешним видом. Девушки его не волновали, и он всегда держался несколько в стороне от них. Создавалось впечатление, что мысли его постоянно заняты чем-то очень важным и серьезным. В его родословной было много известных деятелей русской культуры: во второй части книги «Словарь достопамятных людей русской земли» рассказывается о Прокопии Петровиче Ляпунове, потомке меньшего брата Александра Невского. Жил он в Рязани, а выдвинулся вместе с братом Захаром на поприще отечественной истории в начале XVII века, когда страшная беда — нашествие врагов с запада и севера — нависла над Родиной. Смутное время... Как повествует Н. Карамзин, увидев Отечество в опасности, Прокопии «одушевился любовью к нему и передал это чувство в сердца сограждан, двинул всю Россию на освобождение Москвы». Рать собралась около ста тысяч. «Какого труда стоило Ляпунову собрать и двинуть к Москве (в марте 1611 г.) эту громаду, неустроенную и чуждую взаимной доверенности»! После его гибели ополчение распалось, и лишь, год спустя, второе ополчение во главе с Пожарским и Мининым победило окончательно врагов русской земли.
В реляциях Отечественной войны 1812 г. не раз отмечено имя подполковника Александра Александровича Ляпунова, а Дмитрий Петрович Ляпунов, командовавший Псковским полком в армии Барклая-де-Толли, произведен в генерал-майоры «за храбрые действия над Малоярославцем». В военной галерее 1812 года в Эрмитаже висит его портрет.
Среди Ляпуновых были композиторы, писатели, академики...
Я был частым гостем дома у Аскольда, и приходил сюда не только ради него. Не меньше, чем он, меня притягивали сюда его очень миловидные сестры Рагнедда и Маша, за которыми я ухаживал. Не раз и не два я целовался то с Неддой, а то и с Машей.
Мои размышления прервал следователь.
— Давай, начинай с Ляпунова. Что знаешь о нем, о его родных и знакомых?
— Не очень много. Отец его умер, и он живет у своего родственника — известного ученого-академика, химика Сергея Семеновича Наметкина.
— Интересно. А чем занимается этот академик?
— Если не ошибаюсь, то в основном вопросами химии нефти.
— Что еще знаешь о нем?
— То, что это исключительно порядочный человек.
— Почему так думаешь?
— Человек, который взял в свою семью семерых детей умершего брата жены, может быть только порядочным.
— Возможно, но меня это меньше всего интересует. Какой у него круг знакомых?
— Я его редко видел и не могу ответить на этот вопрос. Знаю лишь, что семья Ляпуновых очень дружила с семьей академика Капицы. Нередко приходили в гости известные музыканты и чаще всего молодой, очень талантливый пианист Святослав Рихтер.
— Больше ничего не знаешь?
— Нет.
— А быть может, все-таки вспомнишь?
Следователь поднял трубку телефона и стал набирать номер.
— Это ты, Валюша? Чем занимаешься? Читаешь? У меня предложение. Какое? Пригласить тебя завтра в кино...
Вот начался длинный разговор, который явно был рассчитан на меня. В камере жизнь на воле уже казалась мне чем-то очень далеким, почти нереальным. Не верилось, что где-то еще существуют кино и театры, что можно свободно ходить по улице без конвоя, даже с девушкой под руку, можно танцевать и любить. А вот сейчас, когда следователь вел бесконечный разговор по телефону, я понял отчетливо, что совсем рядом, за этими стенами люди живут совсем другой жизнью. Им, конечно, сейчас нелегко, идет война, которая уже принесла много горя, но каждый из них чувствует себя человеком, патриотом своей страны и вносит весомый вклад в борьбу с фашизмом.
Аскольд и Гельмут, вероятно, уже работают в госпиталях и оказывают раненым помощь, а я вот нахожусь здесь за решеткой. Тяжко и совестно мужчине отсиживаться в тылу, когда идет война... Мучительно трудно.
Следователь, наконец, закончил разговор и повесил трубку.
— Ну как? Вспомнил? — обратился он ко мне.
— Нет.
— Плохая у тебя память. Придется помогать. Кто такой Архангельский?
— Мой тесть.
— Твой тесть меня не интересует. Он уже отсидел положенный срок на Вайгаче.
— Вас, может быть, тогда интересует авиаконструктор Архангельский?
— Да, именно он.
— Могу только сказать, что он один из близких друзей семьи Ляпуновых.
— А почему раньше о нем не вспомнил?
— А что вспоминать, если я его никогда не видел?
— Это ничего не значит. А может быть, ты хотел его увидеть?
— Зачем? Что может быть между нами общего?
— Все-таки интересно побеседовать с человеком, который проектирует самолеты, тем более военные.
— Я техникой не интересуюсь.
— Тогда объясни: кто был тебе ближе — Ляпунов или Лурье?
— Пожалуй, Лурье.
— Странно. У него ты очень редко гостил, зато постоянно пропадал у Ляпуновых. Чем это объясняется?
Я задумался. Сказать ему, что меня привлекали Недда и Маша? Не хотелось впутывать в это дело милых девушек.
— Лурье редко бывал дома. Он любил посещать театры и кино, увлекался девушками. А вот Ляпунов, наоборот, не признавал развлечений. Он собирался посвятить свою жизнь целиком науке.
— И ты с ним беседовал о науке?
— Когда как.
— Все, что ты сейчас наговорил, неубедительно. Откровенно говоря, я рассчитывал на твою откровенность, но, видно, ошибся. Пойми, каждому ребенку ясно, что ты посещал семью Наметкина или Ляпунова не ради спортивного интереса. У тебя были далеко идущие планы.
— Я вас не понимаю,— прервал я его,— о каких планах вы говорите?
— Не будь наивным.— Следователь сделал короткую паузу, немного задумался, а затем продолжал: — Ты прекрасно понимаешь, что попал сюда не без оснований. Можешь, конечно, не отвечать на мои вопросы, это твое дело, но рано или поздно ты все равно сознаешься в своей преступной деятельности. В твоих интересах не задерживать следствие.
— А если мне нечего сказать?
Следователь неожиданно вскочил со стула и с перекошенным от злобы лицом стукнул кулаком по письменному столу.
— Хватит морочить мне голову. И моему терпению приходит конец. Забыл, что сейчас военное время? Думаешь, что нам здесь делать нечего?
Он вынул из бокового кармана пиджака пачку папирос, сел на край письменного стола, не спеша закурил, а потом уже заговорил более спокойным голосом.
— Значит, у тебя не было никаких планов? Даже Архангельским не интересовался? Все это ложь. У тебя было задание. Хочешь знать, какое?
— Конечно.
— Устанавливать контакты с определенными лицами для получения секретных сведений.
— Секретных сведений? Зачем они мне нужны? — удивился я.
— Для того, чтобы передать их вражеской агентуре.
— Откуда вы это взяли?
— Запомни,— следователь вновь вспылил,— вопросы задаю здесь я, а не ты. Отвечай, для кого собирал информацию?
— Я никакой информации не собирал.
И вот начался утомительный допрос. Следователь требовал, чтобы я сознался в преступлениях, которые я не совершал, а я отказывался. Он не располагал никакими уликами для доказательства выдвинутых им необоснованных обвинений, которые были более чем абсурдными, но его это не смущало. По его словам, я посещал дом Ляпуновых для того, чтобы войти в контакт с Архангельским и получить от него секретную информацию. Конечно, такую, которая связана с боевыми самолетами. Следователь требовал также указать лица, для которых были предназначены сведения.
Меня вызывали каждую ночь и держали до наступления утра. Я сидел в комнате следователя с карандашом в руках перед пустым листом бумаги, который отказывался заполнять. Следователь в это время занимался своими делами, разговаривал по телефону, читал газеты.
Иногда приходили в комнату другие сотрудники тюрьмы, и следователь представлял меня в насмешливой форме.
Несколько раз я допрашивался двумя следователями, каждый из которых придерживался своей тактики. Один действовал угрозами, другой обещаниями смягчить приговор, если сознаюсь в своих преступлениях.
Они напоминали мне плохих провинциальных актеров, играющих давно надоевшую пьесу.
Иногда следователь ставил меня часа на три-четыре лицом к стенке как провинившегося школьника, видимо, надеясь, что я буду сговорчивее. Когда приходится спать в день не больше двух-трех часов, да еще при плохом питании, подобное наказание мучительно.
Иногда мне казалось, что сейчас я потеряю сознание и упаду, но этого не случилось. Я стал безразличным, и даже угрозы следователя уже не действовали на меня.
Все то, что происходило в этих стенах, и не только со мной, все эти допросы и обвинения были мне совершенно непонятны. Неужели, подумал я, следователь верит в те обвинения, которые он мне предъявил? Другое дело, если бы меня обвинили в критике существующих порядков, но в связи с иностранной разведкой? Нет, об этом я даже во сне не подумал бы.
Создавалось впечатление, что кто-то «сверху» спустил план: ловить ежемесячно, еженедельно, ежедневно столько-то шпионов, диверсантов, изменников родины, антисоветчиков, болтунов и т. п.
А может быть, все делалось лишь ради «профилактики», а когда лес рубят, щепки летят? Но все больше смахивало на иную тактику, которую очень кратко и выразительно сформулировали иезуиты: «Цель оправдывает средства».
Весь этот беспредел — заслуга «великого кормчего», о котором акын Джамбул слагал восторженные оды: «Сталин — глубже океана, выше Гималаев, ярче солнца, он — учитель Вселенной».
Сталин на пленуме перед XVII съездом говорил: «Чем больше мы будем продвигаться вперед, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее они будут пакостить Советскому государству, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы, как последнее средство обреченных».
Говорят, что Сталин во время ссылки в Туруханске познакомился с книгами об истории Великой французской революции и речью Робеспьера в конвенте 22 прериаля (10 июня) 1794 г., где тот говорил: «Когда свобода добивается, по-видимому, блестящего триумфа, враги отечества составляют еще более дерзкие заговоры...» Как видно — полная аналогия, но она должна была подкрепляться фактами.
Вот и шли директивы во все области и республики с призывом, или, точнее, приказом найти врагов народа. Установились даже планы, и развернулось негласное соревнование за увеличение числа репрессированных. Дело доходило до выдачи премий отличившимся.
Для облегчения поисков «врагов» использовали списки избирателей, чтобы найти лиц с иностранными фамилиями, которые затем арестовывались, так же как и бывшие священники, офицеры, кулаки...
При этом, однако, забыли слова Маркса, который сказал: «Цель, для которой требуются неправые средства, не есть правая цель».
В один из холодных осенних дней меня вызвали в коридор с вещами. Я сначала подумал, что переведут в другую камеру, но вместо этого меня вывели из тюрьмы и посадили в «черный ворон».
В середине этого микроавтобуса был узкий проход, слева и справа от которого небольшие камеры с решетками. Окна отсутствовали. Ехали около получаса и остановились где-то в центре. Когда двери открыли, конвоир приказал закрыть глаза и взял меня под руки. Краем глаза, однако, я заметил большое здание продовольственного магазина «Динамо» и понял, что нахожусь рядом со знаменитой «Лубянкой», в Фуркасовском переулке.
Мы пошли по стороне магазина в направлении улицы Кирова, а затем свернули влево. Еще несколько шагов, и конвоир остановился.
— Открой глаза! — приказал он.
Я оказался на небольшом дворике, окруженном низкими, старыми домами. Один из них напоминал дворянский особняк, с колоннами у входа. Мы вошли в один из домов и поднялись на второй этаж. Ничего здесь не напоминало тюрьму: обычный коридор, справа и слева от которого расположились комнаты.
Нас встретил надзиратель со связкой ключей. Он открыл одну из комнат и коротко сказал: «Иди!»
Комната была просторная и, что меня крайне удивило в ней,— это наличие железных коек с матрацами и паркетный пол. В середине комнаты стоял квадратный стол, а вокруг него сидели четверо заключенных и играли в домино.
Я поздоровался.
— Откуда? — спросил меня среднего роста черноволосый мужчина лет тридцати в очках.
— С Таганки.
— Немец?
— Да.
— Сразу видно. По пятьдесят восьмой?
— Да.
— И мы тоже. Значит, можете себя чувствовать как дома.
Я положил свои вещи на одну из свободных коек, а затем сел к столу.
— Вас когда забрали?— поинтересовался я.
— Всех, как одного, в середине сентября,— ответил «очкастый», которого звали Иван Михайлович.
— А что сейчас слышно на фронте? В «Таганке» мы ничего не могли узнать.
— Кажется, положение тяжелое,— вмешался плотный, лысоватый мужчина, откладывая в сторону домино.— Идут разговоры, что в Москве осадное положение. Даже следователи заметно встревожены, а здесь уже три дня жгут какие-то бумаги.
— Плохо, что фронт приближается,— с тревогой в голосе вздохнул Иван Михайлович.
— Почему? — спросил я.
— Если нас не успеют эвакуировать, то поставят к стенке. (Маршал Жуков рассказывал: ... когда под Москвой немцы наступали, 200-300 человек высшего комсостава сидели с 1937 года в подвалах Лубянки. Их не на чем было вывозить — всех расстреляли.— «Огонек» № 16—1988 г. С. 13).
Режим в этой странной тюрьме был не очень строгий, и я даже ухитрился днем подремать.
На второй день меня вызвали на допрос в один из рядом расположенных высоких домов, поблизости от продовольственного магазина. Мой следователь, который обычно разговаривал развязным тоном, был на этот раз более сдержан. Он встретил меня хмурым взглядом.
— Как ты относишься к нашей партии и к нашему правительству? — задал он вопрос, который показался мне весьма странным.
— Весьма благожелательно,— ответил я.
— Тоже нашел себе слово «благожелательно»,— усмехнулся он.— А с кем ты говорил 20 февраля этого года?
— Понятия не имею. Чтобы отвечать на такой вопрос, необходимо обладать феноменальной памятью. У меня ее нет.
— Допустим. Могу поставить вопрос по-другому. О чем беседовал у станции метро «Дворец Советов»?
«Ах, вот в чем дело», — подумал я и сразу вспомнил разговор, который имел со студентом из своей группы Ульянченко. Он был значительно старше меня, лет 35—37, ниже среднего роста и далеко не спортивного телосложения. Этим он выделялся из мужчин нашей группы, которые в институте славились своими физическими данными. Ульянченко знал языки, был занимательным собеседником. Он относился ко мне по-дружески, и нередко мы отправлялись с ним после занятий пешком в центр.
Однажды около станции метро «Дворец Советов» у нас зашел разговор о строительстве этого крупнейшего здания мира, высота которого должна была составить 420 метров.
Я сомневался в целесообразности постройки такой «махины», которая будет стоить огромной суммы денег, в такое время, когда так остро стоит жилищный вопрос. На эти средства можно было, по моему мнению, построить не один квартал жилых домов для москвичей.
И, кроме того, чтобы увековечить «величие сталинской эпохи», совсем не обязательно сооружать небоскреб. Парфенон, например, далеко не высотное здание, но это не помешало ему быть выдающимся памятником своей эпохи и всего человечества.
— Ну, как, вспомнил? — напомнил следователь.
Конечно, можно было ответить отрицательно, но я подумал: зачем? Если Ульянченко осведомитель — ему вера, а если нет — тем более. Вот поэтому я и ответил утвердительно.
— И о чем вы там говорили?
— О Дворце Советов.
— А что именно?
— Я считал целесообразнее в наше время строить не огромный Дворец Советов, а жилые дома.
— Почему?
— По той причине, что жилищный вопрос в Москве не решен. Это всем известно.
— Но ты же знал, что было решение партии и правительства о постройке Дворца. Выходит, ты против партии и правительства?
— Почему? Я только выразил свое личное мнение.
— Вот за это твое личное мнение ты и попал сюда.
— Значит, нельзя иметь своего личного мнения?
На этот вопрос следователь не ответил. Мне кажется — он был доволен. Наконец-то я сделал признание.
Он отпустил меня еще до наступления ночи, обещая вызвать в ближайшие дни.
— Подумай о нашем последнем разговоре,— напутствовал он меня.— Тебе есть что сказать.
Прошло два дня. За это время я хорошо выспался, тем более, что на допрос меня не вызывали. Снова и снова вспоминал «историю» с Ульянченко. Итак, один из моих коллег уже оказался доносчиком. Вопрос лишь — каким? Добровольным или вынужденным? Вероятнее всего, Ульянченко заставили говорить. Хотя кто знает... о Дворце он мог и не говорить. Кроме нас никто не знал об этом разговоре.
Сейчас меня, однако, тревожило другое: с ним я мало говорил о политике и поэтому мог его не опасаться, совсем иначе, если заговорит мой лучший друг Гельмут Лурье. Странно, но пока следователь им не интересовался. С Гельмутом я говорил откровенно обо всем, в т.ч. и о политике. Ни он, ни я не могли понять и одобрить массовые аресты, судебные процессы, культ личности и т. п., и было что критиковать. Кроме того, арестовали и родного отца Гельмута...
Конечно, можно было бы все отрицать в случае допроса, но вряд ли это изменило бы мое положение. В такое горячее время не до судебных процессов, и все решает лишь знаменитая «тройка». А ей совсем не
требуется второй свидетель. «На нет и суда нет, но есть Особое Совещание», — говорили тогда.
Поэтому лучшая тактика — сознаться в маленьких ошибках и грехах и отрицать тяжкие обвинения. Последние три дня в камере постоянно ощущался запах дыма. Лысый оказался прав: все время жгли бумагу, и, по-видимому, какие-то документы. Во время прогулки мы видели в воздухе летящие клочки горелой бумаги.
Этап — Казань — В трюме
В тот вечер мы сражались в домино. Я не люблю подобных игр и признаю их лишь с единственной целью, чтобы иногда убить медленно текущее время. На ужин дали жидкий гороховый суп и сильно разбавленный чай.
— С таким питанием скоро протянем ноги,— ворчал Иван Михайлович и пытался ложкой обнаружить чего-то более существенное, нежели жидкость.
Неожиданно резким рывком открыла дверь. Сейчас скажут «проверка» — подумал я, но вместо этого надзиратель рявкнул:
— Всем выходить с вещами! Быстро!
— В баню? — спросил Иван Михайлович.
— Молчать! — последовал ответ.
На улице нас ожидал «черный ворон» и, вероятнее всего, чтобы отправить обратно в Таганку, Бутырку или Лефортово. Машина почти сразу повернула налево, значит, на улицу Кирова, по направлению к главпочтамту. Затем она остановилась, должно быть, перед светофором у «Красных ворот». Сейчас «ворон» свернет направо — но почему-то он поехал прямо. Неужели к вокзалам? Еще несколько томительных минут, и машина остановилась. Мою «камерку» открыли, и последовала команда «выходи!»
Несколько в сторонке я увидел темный силуэт Казанского вокзала, а впереди мрачные здания пакгаузов и перроны. Нас привели к товарной станции. Вместе с другими заключенными меня погнали к одному из перронов. Сзади и cбоку шли конвоиры, которые с трудом удерживали здоровенных, злющих овчарок. Псы рычали, лаяли и пытались схватить нас за ноги. В это время объявили воздушную тревогу, и завыли, сирень!. Послышались выстрелу зенитных орудий, н тотчас же небо осветили трассирующие пули и щупальца прожекторов. Минутами позже раздался сильный взрыв, и где-то за вокзалом показалось пламя пожарище.
— Быстрее! — кричали конвоиры, и мы бегом помчались по перрону в сторону длинного товарного состава.
Собачий лай, крики конвоиров, стрельба зениток, взрывы... все эти звуки вместе создавали фантастическую какофонию, которую трудно забыть.
Наконец мы остановились. Освещай «личные дела» карманными фонариками, сотрудники НКВД вызывали нас по очереди и распределяли по вагонам.
Вагоны были самые обычные «товарняки», рассчитанные на перевозку грузов и скотины и наспех оборудованные для заключенных. Об этом говорили двухъярусные нары и небольшая параша.
В каждый вагон набилось не менее сорока человек. Мне повезло, и я устроился на верхних нарах, правда, без особого комфорта. Положил рюкзак под голову и растянулся. Доски были грубо обтесаны, разной толщины и долго лежать в одном положении оказалось невозможным.
Хотелось пить, но воды не было. У меня оставалась корочка хлеба, которую я обсасывал словно конфетку, растягивая удовольствие. На нарах мы лежали плотно прижатые друг к другу, как сельди в бочке, и о нормальном сне нечего было думать. Состав отправился ночью в путь, но он делал частые и длительные остановки.
Рано утром на одной из остановок конвоиры открыли дверь, чтобы покормить нас. Выдали буханку черного хлеба на пятерых и каждому по одной вобле.
— А когда будет кипяток? — спросил высокий худощавый мужчина в военной шинели.
— Потом,— ответил один из конвоиров, запирая дверь.
Я не люблю воблу и не понимаю вкуса этой рыбы, поэтому сразу обменял ее на кусок хлеба, и вскоре убедился, что сделал правильный шаг.
Соседи по нарам занялись рыбой и профессионально очищали ее пальцами и зубами. Ели с наслаждением, закусывая хлебом. Не прошел, однако, час, и людей охватило беспокойство.
Послышались возгласы: «Чертовски пить хочется», «когда же, наконец, дадут воды?», «нарочно нам подсунули соленую рыбу, чтобы помучить»...
Та же картина, видимо, наблюдалась и в остальных вагонах, т. к. вскоре заключенные стали барабанить по двери и кричать: «Воды! Воды!»
Через несколько минут весь состав скандировал: «Воды! Воды!» Поезд остановился лишь спустя три-четыре часа, но воды не дали.
— Вода будет вечером! — сказали конвоиры и предупредили угрожающим тоном: «Если будете шуметь, ничего не получите».
В конце второй половины дня нам принесли два ведра ледяной воды. Заключенные набросились на нее с кружками в руках, но мужчина в шинели остановил их, и скомандовал:
— Стойте! Давайте будем соблюдать порядок. Нечего толкаться. Воды всем хватит. Становитесь в очередь.
Он вытащил из вещмешка небольшую кружку и продолжал:
— Это мерка, чтобы никому не было обидно. Мужчина стал разливать воду, каждому по кружке. После этого осталось еще около полведра воды.
— Давайте оставим ее,— предложил он.— Неизвестно, когда нам еще дадут попить.
Так и сделали. Вечером, как и в тюрьме, была проверка. Во время одной из остановок в вагон зашли два конвоира, вооруженные фонарями и здоровенными деревянными молотками.
— Переходите все сюда! — скомандовал один из них, указывая на левую от двери половину вагона — Быстро!
Кто-то неохотно слез с нар, кто-то замешкался, и вдруг, совершенно неожиданно, конвоиры пустили в ход свои тяжелые молотки, обрушивая их на спины отстающих. Один из заключенных упал со стоном на пол, но второй удар заставил его быстро вскочить.
— Ну и звери,— сказал шепотом рядом со мной старик.
Конвоиры стали проверять целостность пола и стен, постукивая молотками, осмотрели парашу, а затем перегнали нас на освободившуюся половину вагона. На этот раз никто не замешкался.
Всю ночь состав стоял около небольшой станции и лишь после рассвета тронулся в путь. Вагон имел несколько щелей, через которые можно было наблюдать за нашим передвижением, и здесь постоянно образовывалась длинная очередь.
Всех интересовал вопрос, куда нас везут. Гадали: наверно, на Урал, в Соликамск, Губаху, а может быть, в Сибирь, или дальше на Дальний Восток, в Магадан или на Колыму.
На каждой остановке наш состав пополнялся новыми заключенными. Однажды я увидел на одной из станций, как из небольшой деревни милиционеры вели двух окровавленных мужчин, которые были одеты лишь в нижнее белье. Они шли в носках и с трудом, качаясь, пробивали себе дорогу через глубокий снег, оставляя за собой красные следы.
И в нашем вагоне было несколько человек, которые были одеты лишь в брюки и пиджак, а зима оказалась суровой. Среди заключенных добрую половину арестовали еще в летнее время, и многие из них по разным причинам не могли захватить с собой зимнюю одежду.
А чем мы могли помочь? Я одолжил молодому парню, который лежал рядом со мной на нарах в красноармейских брюках и защитного цвета рубашке, свитер, кто-то поделился своими носками или портянками. Чаще всего, однако, выручала теснота. Если у кого-то было одеяло, то им укрывались сразу трое, красноармейская шинель обогревала двоих, а если не было ни того, ни другого, то прижимались друг к другу как влюбленные.
Здесь все были равны. Холод, голод, да и деревянные молотки конвоиров не разбирали, кто передними студент, рабочий, профессор или бывший боевой командир.
Мы ехали четыре, а может быть, и пять дней. Но во всяком случае показалось, что прошла вечность. По-прежнему давали раз в день хлеб и рыбу, а на вагон два ведра воды, по-прежнему конвоиры пускали в ход свои молотки во время проверок, «подбадривая» медлительных.
И вот наступил долгожданный момент, когда для нас открылись двери вагонов Мы прибыли в Казань. Более тысячи человек, плохо одетые, небритые, немытые, измученные, с узлами в руках, как паломники двинулись по улицам старого волжского города.
Разместили нас в старой церкви, которая недавно, видимо, использовалась как склад. Это было большое, пустое помещение, на стенах и потолке которого кое-где еще проглядывали размытые контуры православных святых. О том, что нас ждали, говорила лишь огромная параша, которую установили в бывшем алтаре. Устраивались прямо на каменном полу. Хорошо, если у кого-то было чего подложить, но таких встречалось не очень много. Снять пальто или пиджак, чтобы подложить их, никому не хотелось, т. к. по церкви гулял ледяной ветер. Несмотря на неимоверную тесноту, всех мучил холод.
Кормили нас снова черным хлебом и рыбой, на этот раз килькой. Ели ее целиком, с головой и внутренностями. Спать пришлось сидя. Не было места, чтобы вытянуть ноги.
Утром отобрали человек сто, в том числе и меня, и направили на работу в порт. Таскали из трюма мешки с мукой весом около восьмидесяти килограммов и большие кули с капустой и другими овощами. Последние весили 102-105 килограммов.
Из трюма надо было сначала подняться по очень крутой лестнице, а затем уже идти по шатким мосткам к берегу. Конвоиры и работники порта кричали: «Аида! Аида!» — требуя, чтобы мы бегали быстрее.
К моему удивлению, мои ноги не подгибались под тяжестью груза. Силы еще были. Как-никак, но два года я занимался штангой.
После работы всем давали дополнительно триста граммов хлеба, а до этого мы набили карманы морковью и репой. Кажется, впервые за долгое время я снова ощутил чувство относительной сытости.
Три дня пробыли в Казани, а затем всех погрузили на баржу. Надо было спешить, кончалась навигация. По широкой лестнице спустились в темное, мрачное и сырое помещение трюма, которое затем закрыли железным щитом. Теснота была такая, что в сравнении с ней в церкви царил простор. Особенно мучительным оказалось вынужденное сидение. Пришлось прижимать колени к подбородку из-за неимоверной тесноты. Когда ноги начинали болеть, вставали. Ночью ложились друг на друга.
Сколько человек находилось в трюме — трудно сказать. Не менее пятисот, а может быть и семьсот.
Трюм освещался фонарем «летучая мышь», который закрепили на стойке в центре помещения, почти рядом с внушительной по объему деревянной парашей.
Пользоваться парашей было тягостным испытанием. Первая трудность заключалась в том, как добраться до нее. Не было свободного места, куда поставить ногу. Чаще всего приходилось на четвереньках ползти через лежащие тела людей, чтобы случайно не наступить на них. Вторая трудность была связана с размерами параши и тем, что на ее краях всегда оставались испражнения. Вскоре, однако, прибавилось еще другое препятствие. Несмотря на свой большой объем, параша довольно быстро наполнялась, и вокруг нее стало мокро.
Заключенные, сидящие в непосредственной близости от нее, завопили. Стали звать охранника и начали стучать по металлическому щиту, закрывающему трюм.
— В чем дело? — заорал кто-то в ответ.
— Парашу надо вынести.
— Сейчас нельзя. Ждите до вечера, когда придет смена.
Хорошо сказать — ждите. Среди заключенных было много истощенных и больных, которые каждый час бегали к параше. Что им оставалось делать? Не перевязывать же детородный орган.
Кончилось тем, что вокруг параши образовались большие лужи. Вечером, когда сменились охранники, было дано разрешение вынести парашу. Сначала дежурные зеки освободили с великим трудом узкий проход в трюме, а потом занялись парашей. Через ушки продели здоровенную палку и четверо крепких мужиков потащили тяжелый груз по направлению к лестнице. При каждом шаге жидкость выплескивалась через край, что сопровождалось бранью со стороны пострадавших.
Самым трудным участком оказалась лестница. И вот на одной из последних ступеней кто-то из носильщиков поскользнулся и на секунду потерял равновесие. Параша угрожающе наклонилась и солидная порция испражнений вылилась на тесно сидящих под лестницей людей.
Ругательства, которыми награждали носильщиков, могли изумить лингвистов, но они ничего не изменили. Воды едва хватило для питья и о том, чтобы смыть с себя нечистоты, не могло быть и речи. Так и сидели несчастные, распространяя вокруг зловоние.
Недалеко от меня расположился старик в добротной военной шинели, которая висела на нем, как на вешалке. Старик был настолько немощным, что лишь с трудом передвигался. Лицо было худое, все в морщинах и нездорового, желтого цвета. Резко выступающие скулы и впалые щеки еще более подчеркивали узкие калмыцкие глаза.
Старик постоянно кашлял и то и дело выхаркивал в платок гнойную мокроту. Это был калмыцкий генерал и, как говорили, сподвижник Оки Городовикова. Он ни с кем не разговаривал и сидел задумчиво с печальным выражением глаз. Ему, безусловно, было труднее, чем нам. Участник гражданской войны, проделавший нелегкий путь от батрака до боевого генерала, защитник молодой Советской республики и вдруг — враг народа.
Уже больше десяти дней мы не знали нормального сна и не получили за это время ни разу горячей еды, не считая редких случаев, когда нам давали кипяток.
Брюки стали мне широкими, и пришлось их сузить. Ремни и подтяжки отобрали еще в первый день ареста.
В Чистопольской тюрьме — Состав заключенных — Баня — Шахматы — Махорка — Беседа о калорийности питания
Плыли мы три дня. Когда открыли трюм, я увидел серое мрачное небо и полупустынную пристань, на которой большими буквами было написано «Чистополь».
Погода была пасмурная, шел мелкий дождик, и на улице мы застревали чуть ли не до колен в жидкой грязи.
После на редкость холодных октябрьских дней наступило небольшое потепление. Шли долго, растянувшись на большое расстояние, и мечта-пи лишь об одном, чтобы скорее попасть в сухое, теплое помещение.
Остановились у малопривлекательного здания тюрьмы. Нас почему-то сразу туда не пустили, и около часа мы еще мокли под нудным дождем, проклиная все на свете. Когда открылись большие ворота, мы радовались, как маленькие дети, что наконец-то попали в тюрьму.
И вот мы добрались до Чистопольской тюрьмы. Прошли через проходную, пересекли небольшой дворик и поднялись на второй этаж каменного здания. Здесь нас распределили по камерам.
Я стоял в коридоре и наблюдал за тем, как заключенные впереди меня занимали места в камере. Камера имела размеры около 5х9 метров, и была оборудована одноярусными нарами. На нарах разместились не более двадцати человек, а остальные стояли с вещами в нерешительности и не знали, что делать дальше
Меня и еще человек пять охранники с трудом втолкнули в камеру, после чего им едва удалось закрыть дверь. Это напоминало московское метро в час пик
Я сразу сообразил, что лучше всего устроиться под нарами — здесь, во всяком случае, можно было вытянуть ноги. Недолго думая, нырнул туда. Моему примеру последовали другие заключенные, и в считанные секунды пространство под нарами заполнилось. Сейчас в камере стало несколько просторнее, хотя далеко не всем достались «лежачие» места.
Человек пятнадцать вынуждены были сидеть на нарах у ног тех счастливчиков, которые первыми ворвались в камеру. На полу не хватало места. Там люди уже лежали, прижавшись друг к другу, как сельди в бочке.
После небольших дебатов было принято справедливое решение занимавшие нары, сидячие и лежачие будут спать по очереди. Одни днем, другие вечером.
Итак, я устроился под нарами. Они были не очень высокие и позволяли только лежать. Даже когда я поворачивался с боку на бок, то обязательно задевал их. Хорошо еще, что пол был деревянный. Я использовал в качестве подстилки теплые вещи, подушкой служили рюкзак и обувь.
В камере, рассчитанной не более чем на двадцать человек, набилось восемьдесят два, т. е. на квадратный метр — два человека. (Согласно указанию ГУЛага за № 658780 полагалось два квадратных метра площади для узников тюрьмы).
Все обвинялись по статье 58, и большинство по пункту 10 части второй (антисоветская агитация). У многих, в том числе и у меня, имелись еще другие пункты «б» и «1а» (шпионаж и измена родине), за которые в военное время обычно полагалась высшая мера наказания.
Народ был довольно разношерстный, как по национальному составу, так и по образованию Его можно было разбить на несколько категорий:
1. Участники первой империалистической войны, которые находились когда-то в немецком плену. Это были обычно простые мужики, которые работали в сельском хозяйстве у крестьян или помещиков, и, в общем, жили вполне сносно. Они попали в тюрьму за то, что расхваливали немецкий образ жизни. (Из директивы НКГБ СССР о выявлении агентуры немецкой разведки — 28,6,41 г.— Усильте изучение бывших военнопленных, находящихся в плену в Германии, бывшие солдаты германской и австрийской армии, которые после русско-германской войны остались в СССР. При наличии материалов, позволяющих подозревать в диверсии, шпионаже, пораженческих настроениях, их немедленно арестовать и на следствии выявить германскую агентуру).
2. Гражданские или военные лица, которые оказались в плену у немцев или на оккупированной территории.
3. Специалисты, которые работали в Германии.
4. Немецкие антифашисты, австрийские шуцбундовцы и их дети.
5. Молдаване, в т. ч. и бывшие офицеры австро-венгерской армии.
6. Немцы из Поволжья, Украины и Северного Кавказа. Прочие лица немецкой национальности.
7. Лица, имеющие связь с Германией (родственников, друзей...), в т.ч. и переписку.
8. Лица, расхваливающие Германию, ее армию и т. п.
Позже прибавились и другие категории: сектанты, дезертиры, работающие у немцев (старосты, полицейские, переводчики...)
В камере было и несколько уголовников, которые, однако, попали сюда также по статье «58». Добрая половина заключенных оказалась немецкой национальности.
В первый день пребывания в тюрьме я спал великолепно, несмотря на жесткий пол. Проснулся от резкого окрика: «Встать!»
Оказывается, в камеру вошел дежурный по тюрьме. В этом случае всем полагалось вставать. Я вылез из своего подземелья и увидел около двери человека с мрачной физиономией. Век мне не забыть это квадратное лицо, покрытое бесчисленными оспенными рубчиками, и глаза палача.
Дежурного я сразу окрестил «Квазимодо». Грубым, чуть хрипловатым голосом он объяснил порядок в тюрьме и велел выбрать старосту и дежурных.
— А сейчас выходите в коридор,— приказал он.— Пойдете в баню.
Мы спустились во двор и вошли в низенькое каменное здание, где располагалась баня. В предбаннике разделись. Каждому вручили малюсенький кусочек мыла и большое кольцо из толстой проволоки, чтобы надеть на него одежду. Одежда должна была пройти дезинфекцию и дезинсекцию или по тюремному «прожарку».
Здесь же в предбаннике нас ожидали в белых халатах парикмахеры, которые орудовали машинкой и бритвой с ловкостью цирковых артистов. Сначала остригли волосы на голове, а затем приказали встать на табуретку, чтобы обрить остальную растительность. Заключенный при этом держал пенис за головку и по команде поднимал или опускал его.
После «обработки» направились в далеко не жаркую моечную, где получили жестяную шайку Вода была ограничена две шайки на человека.
Во время мытья я заметил, как двое из наших уголовников незаметно начали отламывать ушки шаек. Для какой цепи — мне было неизвестно Третий из них подобрал кусок оконного стекла, который, видимо решил взять с собой.
Мылись в темпе — охранники поторапливали. Еще минут десять «плясали» продрогшие в ожидании одежды, а затем вернулись в камеру
Спустя полчаса нам стали выдавать хлеб и здесь мы сразу поняли, что это далеко не простая процедура. К двери камеры девушки-указницы (осужденные за самовольный уход с производства) притащили большой фанерный ящик с ручками, в котором находился хлеб уже нарезанный и взвешенный. Почти каждая пайка (450 г) имела довески которые прикреплялись к ней с помощью тоненьких деревянных палочек. Рядом с девушками стоял коридорный, который следил за раздачей хлеба.
Так как 82 пайки передавались из рук в руки, легко можно было ошибиться в счете, но не только это. Уже во время первой раздачи хлеба уголовники пользуясь суматохой утаили две пайки хлеба и лишь случайно кража была обнаружена.
Разгорелись также горячие споры из-за горбушек. Ясно было, что подобная раздача хлеба неприемлема. После длительных дебатов остановились на том чтобы разделить камеру на восемь групп по 10—11 человек в каждой Старший группы получал хлеб и раздавал его своим подопечным. Но и здесь возникла проблема с горбушками и каждая группа решала эту задачу по-своему. Одни тянули жребии, другие раздавали горбушки по очереди.
Моими соседями по «подземелью» были бухгалтер Есалов, крепкий мужчина средних лет, и Вернер Гофман учитель из Хортицы, с которым я сразу подружился Я рассказывал ему о том, что видел в бане.
— Не только уголовники отломали ручки с шаек,— сказал он,— и знаешь, почему?
— Нет
— Они делают из них ножи.
— Как?
— Очень просто. Надо только достать кусочек кирпича. А потом точи жесть, пока она не станет острой
После посещения бани многие заключенные нашли себе работу. Уголовники занялись своими ножами, человек десять распустили носки и вили веревки, еще кто-то занялся изготовлением швейной иглы
— А знаешь,— предложил Вернер — пожалуй, и нам не мешало бы сделать себе такую же иголку. Без нее жить будет трудно. Все равно надо чем-то убить время.
— Я не против, но из чего и как?
— Это я покажу. Посмотри,— Вернер показал на мои брюки,— здесь наверху они застегиваются с помощью железного крючка и такой же петельки. Вот из этой железной петельки делается игла. Тебе не жаль расстаться с ней? У моих брюк, к сожалению, остались лишь одни пуговицы.
— Пожалуйста, бери.
Вернер вытащил из кармана кусочек оконного стекла и осторожно срезал петельку. Закончив с этим делом, Вернер взял приколку от хлеба, и привязал к ней проволочку, которую предварительно выпрямил. Сделал он это таким образом, чтобы угол ее опирался на конец приколки.
— А сейчас можно пилить. Для этой цели я и прихватил оконное стекло из бани. Здесь все пригодится.
Вернер начал осторожно пилить стеклом по месту сгиба проволоки, точно в середине, и постепенно образовался здесь узкий жёлоб. Затем он повернул проволоку и загнул ее конец в обратную сторону, также под прямым углом. Вернер снова стал пилить.
— Главное,— объяснил он мне,— чтобы оба жёлоба точно совпадали.
Приблизительно через час основная работа была закончена, и образовалось небольшое отверстие. Осталось только заточить кончик иглы. Для этой цели мы использовали по примеру уголовников кирпичную стену нашей камеры.
Итак, у нас появилась своя собственная швейная игла. В условиях чистопольской тюрьмы это было настоящее богатство, и мы могли радоваться. Тюрьма, тем более в условиях войны, страшное учреждение, которое подвергает заключенного многим испытаниям. Трудно сказать, какие из них больше угнетают: изоляция от внешнего мира, скученность или голод. Не менее тягостным, однако, является и безделье. В Москве нам выдавали книги, шахматы, домино, здесь же мы могли об этом только мечтать. Помню, как быстро протекали дни в Таганке, когда мне выдали толстеннейшую книгу с сочинениями Льва Толстого. А здесь мы были предоставлены самим себе.
Я прекрасно понимал, что от безделья лишь один шаг до потери силы воли, а затем и до потери рассудка. Единственный выход из положения — найти себе занятие и притом постоянное. Помочь мне в этом могла и маленькая швейная игла, на которую в обычных условиях никто бы не обратил внимания.
— Знаешь, какая у меня появилась идея? — обратился я к Вернеру.
— Нет.
— Хочу сделать шахматы.
— Шахматы? Неплохо. А откуда возьмешь доску? Здесь фанеры нет.
— Зачем фанера. Можно сшить из материала. У меня здесь большая простыня, которая все равно не найдет себе применения и старые черные трусы из сатина. Из трусов сделаем черные квадратики и пришьем их к лоскутку материи.
— А фигуры хочешь лепить из хлеба?
— Конечно.
— Тогда мой совет такой,— Вернер сделал небольшую паузу, словно искал какой-то нужный выход из положения и продолжал,— пока никому не говори о нашей затее. А вот когда доска будет готова, тогда обратимся к камере. Пусть каждый даст кусочек хлеба для фигур. Не нам же одним голодать. Играть, увидишь, будут все.
Два дня трудился я с утра до вечера над доской. Распустил носок на нитки, раскромсал трусы, отрезал кусочек от простыни, а затем начал шить. Доска получилась отменная. Любителей играть в шахматы и шашки собралось человек тридцать и, несмотря на голод, который мучил всех, было собрано около четырехсот граммов хлеба.
Когда я начал трудиться над фигурами, то заметил, что десятка два зорких пар глаз следили за моей работой. Это были глаза тех, которые пожертвовали хлебом. Они боялись, чтобы я не съел хотя бы частично хлеб, который мне передали для шахмат.
Я сначала долго мял хлеб, обильно смочив его слюной, а затем разделил его на две части — для черных и белых фигур.
Чтобы сделать белые фигуры, я использовал известку, покрывавшую стены камеры. Работал не спеша и начал с самых простых фигур-пешек. Когда первая партия была готова, я поставил ее под окном для сушки.
Велико было мое удивление, когда на следующее утро фигур не оказалось. Кто-то съел их. К сожалению, голод превращает нередко людей в тупых животных, которые следуют только своим инстинктам.
У таких субъектов отключены центры торможения и поэтому отсутствуют такие понятия, как совесть, сострадание, дружба и взаимопомощь.
Хорошо, что фигур было немного. Я мог обойтись тем количеством хлеба, которое еще осталось.
Перед тем, как продолжить работу, я сшил небольшой мешочек для фигур, чтобы избежать повторной кражи, и носил его на груди.
Дня через три шахматы были готовы, и получили всеобщее одобрение. Жизнь в камере сразу оживилась. Начались настоящие сражения в шашки и шахматы, и вскоре появились свои чемпионы.
Строгий порядок в чистопольской тюрьме отсутствовал и, в отличие от Таганки, здесь можно было спать хоть круглые сутки. Несколько деревенских мужиков пользовались этим правом и просыпались лишь во время раздачи хлеба или баланды, во время проверки или когда нужда заставляла их идти к параше. Им можно было лишь завидовать.
Чистопольская тюрьма была переполнена до отказа, и число заключенных, вероятно, превысило допустимую норму раз в десять, а может быть, и больше. Вполне понятно, что в таких условиях соблюдать строгий порядок было невозможно Утром полагалась пайка хлеба, в обед и ужин тарелка супа и, кроме того, раза два-три в день кипяток.
Один раз в день выносили парашу, вечером была проверка. Нередко, однако, раздача хлеба затягивалась до обеда и даже до ужина. То же самое случалось и с супом, который выдавали иногда даже ночью
В такие моменты вся камера находилась в нервном напряжении. Никто не разговаривал, и только «слухачи» докладывали о том, что делается в коридоре. «Слухачей» было трое. Они постоянно караулили у дверей в ожидании пайки, супа или кипятка и могли по звуку определить, в какой камере проводится раздача и даже сделать вывод о густоте супа.
Хлеб имел различное качество. Когда приносили подовый, в камере наступал праздник. Формовой хлеб встречали угрюмым молчанием. Он был меньше по размерам, тяжелый и часто сырой как глина.
Хлеб ели по-разному. Одни проглатывали его сразу, другие разделяли на части. К последним относились и мы с Вернером. Чтобы подольше растянуть удовольствие, срезали корку и сушили ее в мешочке, который постоянно носили на шее. Эту корку (предварительно разрезанную на мелкие квадратики) мы съедали обычно вечером следующего дня. Хлеб ели медленно, с наслаждением, словно шоколадную конфетку.
Воду пили мало — не больше трех кружек в день, в отличие от большинства заключенных. Многие из них, чтобы подавить чувство голода, делали себе «тюрю» и крошили хлеб в сильно подсоленный кипяток. Пропорции были разные, но чаще всего литр на сто граммов хлеба. Соль нередко прибавляли ложками.
Супа давали пол-литра, в обед и ужин. Чаще всего это была обычная «баланда», сильно разбавленная в кипятке ржаная мука, иногда с небольшим количеством галушек. Такой суп или, точнее, клейстер, не мог одолеть голод, но все-таки обладал питательными веществами, правда, лишь в небольших количествах.
Суп из капусты, другой вариант нашего меню, по питательной ценности равнялся дистиллированной воде и не зря именовался супом «рата-туй» (кругом капуста, а в середине х...)
Не только мне, как врачу, но и всем остальным было ясно, что на таком пайке долго существовать нельзя.
Каждый раз, посещая баню, мы смотрели на себя и своих товарищей оценивающим взглядом и могли лишь констатировать, что тощали все больше и больше. У бывших толстяков животы висели словно пустые мешки, образуя ниже пупка множество складок, а у остальных ягодицы постепенно теряли свою округлость.
У меня не было запасов жира, и я терял в весе за счет своих мышц. Когда-то я гордился мощными бедрами, но, увы, сейчас они по толщине уже не уступали коленному суставу.
Но человеку кроме питания требуется еще и свежий воздух, а мы его, к сожалению, не имели. На прогулку нас не водили, и даже оправляться приходилось в камере.
Есть русское выражение — «хоть топор вешай», которое довольно точно определяет понятие — плохой воздух. Когда-то я считал это выражение преувеличенным, но в тюрьме изменил свое мнение. Вечером во время проверки нас выводили в коридор, который нам казался удивительно прохладным и освежающим. А вот когда приходилось возвращаться обратно в камеру, я впервые в своей жизни стал ощущать плотность воздуха. Казалось, что невидимая горячая стена загораживает путь, и требовалось какое-то усилие, чтобы преодолеть ее. Хотя на улице температура снизилась до сорока градусов и даже ниже, камеру не топили. Зачем? Мы обогревали ее своими телами, своим дыханием. Было так жарко, что большинство заключенных сидело в трусах. Я даже сшил себе для этой цели плавки из остатков простыни. Среди заключенных существовала одна категория, которая особенно страдала — это были курильщики. В московских тюрьмах продавали табак, но пока добрались до Чистополя, почти у всех курильщиков кончились запасы. Многие из них были готовы отдать все, что они здесь имели: одежду, обувь, даже кровную пайку, лишь бы получить немного табака. Искали даже замену табаку. Мой сосед Есалов по примеру других курил сухие листья, которые он собирал на всякий случай около тюрьмы, в день нашего прибытия и распространял вокруг себя едкий дым.
Курили также опилки и вату. Очень необычный выход из положения нашел заядлый курильщик бухгалтер Фомин. Он нарезал свою прокуренную трубку на мелкие части и искурил ее.
Наступил январь 1942 года. И вот в один из хмурых зимних дней дежурный, словно добрый рождественский дед мороз, обрадовал нас сообщением:
— Кто сдал деньги и имеет квитанцию, может заказать махорку. У меня, к счастью, сохранилась квитанция, которую выдали в Таганке. Денег тогда отобрали рублей около пятидесяти.
На следующий день мы получили махорку, но больше трех стаканов на руки не давали. Я не курил, так же как и Вернер, но мы надеялись обменять махорку на хлеб. Конечно, хотелось сразу совершить подобную сделку, но Вернер остановил меня.
— Подожди,— сейчас у многих махорка, и поэтому цена на нее будет не очень высока. В лучшем случае дадут пайку за 6-7 спичечных коробков махорки. Подождем лучше, когда в камере кончится курево.
Так мы и сделали. Вернер оказался прав. Курева было много, и поэтому цена на него резко упала. Если еще две недели тому назад за пайку давали не больше трех спичечных коробков, то сейчас приходилось давать семь и восемь за нее.
Три стакана махорки не очень много для заядлого курильщика, и дней через десять в камере снова ощущалась нехватка табака. Цена на него постепенно поднялась. Вернер не терял времени даром. Он где-то достал кусочек дерева и начал резать его на мельчайшие кусочки. Затем он нарезал сухие листья также на мелкие части.
— Зачем тебе эти листья и опилки? — спросил я его. Вернер немного смутился: — Для махорки.
— Это, по-моему, нечестно.
— Ты прав, но честным быть в тюрьме очень трудно. Кто-то сказал, когда пойдешь в тюрьму, оставляй совесть за вахтой. А, кроме того, махорка — не питание.
Когда цена на махорку резко повысилась, мы начали ее понемногу продавать. Покупали ее обычно коллективно, и для этого имелись веские причины. Для того, чтобы закурить, требовался ряд условий: во-первых, надо было иметь бумагу для «козьей ножки», и, во-вторых, конечно, огонь. О том, что на свете существуют спички, мы давно забыли, и огонь добывался способом людей каменного века, т. е. путем трения.
Этим искусством, однако, владели лишь двое из наших уголовников, из которых своим мастерством выделялся карманник «Кривой».
Процесс добывания огня напоминал древний священный ритуал. Сначала освобождалось место на нарах, т. к. доски были необходимы для получения огня. «Кривой» оценивающе осматривал их, гладил рукой, а затем выдирал из своего старого бушлата кусок ватки и делал из него стержень длиной около десяти сантиметров. Затем он доставал короткую доску, которую бережно хранил, и начинал раскатывать стержень. Когда он становился достаточно плотным, «Кривой» обматывал его еще одним тонким слоем ваты и снова, не спеша, раскатывал его. Потом, посмотрев на стержень, ощупывал его и на этот раз раскатывал его очень быстро. Затем брался за оба его конца, разрывал его пополам, стряхивал обрывки и дул на них. Сразу появлялись искры и небольшое пламя. Можно было прикуривать.
Курили обычно по очереди трое или четверо одну «козью ножку»: хозяин махорки, обладатель бумаги, специалист по добыванию огня и нередко еще тот, кто давал вату.
Чтобы сохранить огонь, заключенные иногда делали фитиль, который затем долго дымил. Были и другие способы добывания огня, которыми, однако, редко пользовались.
Благодаря тому, что удалось купить махорку, мы имели иногда дополнительный кусочек хлеба. Сытыми от этого не были, но настроение в эти дни поднималось.
Голод давал о себе знать. Он был хуже зубной боли и мучил каждого, даже во сне. Сны мои были разного содержания, но все связаны с едой. Единственное — никогда не приходилось наслаждаться пищей. В самый ответственный момент, когда я становился обладателем пышной буханки хлеба, тарелки с наваристым супом или миски с гречневой кашей, я обязательно просыпался.
Мысли о пище не давали покоя. Утром мы мечтали о подовом хлебе и горбушке, в обед и ужин о густом супе.
Разговоры касались в основном лишь одной темы — еды. Вспоминали, что когда ели и, главное, как готовить ту или иную пищу.
Есалов подробно посвящал нас в секреты украинской кухни, «варил» борщ и рассольник с мясом, «стряпал» вареники, а сосед его занимался кондитерскими изделиями и мороженым.
Находились умельцы, которые коптили окорока, делали кровяную колбасу, солили огурцы и капусту, фаршировали рыбу, мариновали грибы, варили пиво и брагу, знали способ изготовления вина и самогона.
Нередко возникали горячие споры из-за рецептуры отдельных блюд, о правильном распределении продуктов и подборе блюд в течение дня и о сервировке стола.
Жарили, варили, солили, парили и мариновали в буквальном смысле слова с утра до вечера, и этими разговорами еще больше возбуждали аппетит. Это был своеобразный онанизм, которым страдали более половины заключенных.
Попытались вести борьбу с этим злом, но ничего из этого не получилось.
Далеко не все находили себе занятия, как мы с Вернером, и тогда было сделано предложение организовать цикл лекций и бесед на разные темы. В камере были инженеры и учителя, художники и врачи, бухгалтеры и партийные работники, которые могли рассказать о многом.
Александр Дотц, например, был одним из тех, кто сыграл заметную роль в истории Автономной республики немцев Поволжья и занимал высокий пост. Он неоднократно видел Ленина и слышал его выступления.
Вместе с учителем Михаелисом, грузчиком Карлем Шульцем и демобилизованным матросом Балтазаром Шмидтом он основал первую большевистскую организацию в Катариненштадте. Эти коммунисты организовали первые отряды Красной гвардии, которые позже были включены в дивизию легендарного Чапаева.
А. Дотц был первым выбранным секретарем районного комитета партии города Марксштадта и первым председателем областного исполнительного комитета на Волге.
Его поле деятельности было широким: Баку, Батуми, Харьков, Москва и даже Южная Америка. Он был экспертом по вопросам внешней торговли советскими нефтяными продуктами в Монтевидео.
Сейчас он устроился на полу в углу камеры и выделялся среди нас своим строгим черным костюмом из английского бостона. Правда, вскоре он его снял из-за жары и остался, как и мы, в одних трусах. Но даже в этой одежде Дотц обращал на себя внимание благодаря интеллигентному и волевому лицу и очкам в отличнейшей металлической оправе. Глаза, однако, были колючие и не очень добрые.
В нашей камере сидело много немцев из Поволжья, которые знали Дотца еще с двадцатых годов. Они характеризовали его как очень решительного и жесткого человека.
Александру Дотцу было чего рассказать, и уговаривать его долго не пришлось. Правда, о своей работе в Поволжье он с нами не делился, но зато очень красочно и ярко описал жизнь в Бразилии.
Но почему-то в первую очередь меня попросили выступить.
— Вы врач,— обратился ко мне здоровяк Штауб, в прошлом тракторист,— расскажите нам, пожалуйста, как мы должны себя вести в камере, чтобы не заболеть.
— Лучше скажите, сколько можно прожить на таком пайке, и дотянем ли мы вообще до навигации? — крикнул кто-то из-под нар.
— Правильно, правильно,— слышались одобрительные голоса. Пришлось прочитать довольно каверзную лекцию о гигиене, в т. ч. и о гигиене питания. Очень хотелось помочь людям, дать им советы, как себя беречь. Но что я мог сказать здесь, в условиях тюрьмы? Предлагать им заняться утренней гимнастикой, чистить зубы, быть побольше на воздухе?
После небольшого вступления, в котором я познакомил слушателей с основными вопросами питания, его энергетическими ресурсами и калорийностью, я остановился на водно-солевом режиме.
— То, что наше питание недостаточно, ни для кого из нас не секрет, и поэтому особенно важно не перегружать свое сердце. Это значит: меньше пить воду, меньше употреблять соль, не злоупотреблять табаком.
Уже у многих из нас на ногах появились отеки, которые, правда, к утру спадают. Из-за них нам приходится вставать ночью чуть не каждый час и бегать к параше. Я подсчитал: есть уже рекордсмены, которые в течение дня выпивают до пяти-шести литров воды и употребляют при этом 30—40 г. соли. Это выше нормы в несколько раз и значительно перегружает сердце, которое и так уже ослаблено. Кроме того, не забывайте, что соль задерживает воду в организме и способствует возникновению отеков.
Главное в нашем положении — сохранить силы до наступления весны и открытия навигации, а там видно будет. В лагерях, наверно, тоже не очень сладко, но там у нас, во всяком случае, будет свежий воздух, движение и, конечно, работа. Это не менее важно, чем питание.
— У меня вопрос? — руку поднял доцент МВТУ им. Баумана, крупный мужчина — косая сажень в плечах.
— Пожалуйста.
— Вы говорили нам о питательной ценности продуктов и их калорийности. Хотелось бы узнать: сколько нам необходимо получать калорий в день, здесь, в этой камере? Я имею в виду минимум.
— В спокойном состоянии человек для нормальной жизнедеятельности нуждается в 1600 калориях в день, если его вес составляет 70 килограммов. Женщинам нужно около 1400 калорий.
— Хорошо. А сколько калорий мы получаем в день?
— Давайте будем считать. Калорийность ржаного хлеба колеблется между 190—230 калорий (100 г). Наш хлеб не отличается особым качеством, и поэтому в пайке не более 900 калорий. Добавим к этому калорийность супа. Суп настолько жидкий и малопитательный, даже «бол-тушка», что его калорийность вряд ли превышает 100 калорий. Получаем в итоге 1000 калорий в день.
— Вместо необходимых 1600?
— Да.
— Вы сказали до этого, что один грамм жира при сгорании дает 9,3 калорий, а белки и углеводы 4,1 калорий.
— Точно так.
— Выходит, что мы недополучаем ежедневно 600 калорий. Чтобы компенсировать эту недостачу, наш организм должен ежедневно терять 65 граммов жира или 135 граммов белков или углеводов.
— Да, приблизительно так.
— Жиров у нас уже нет. У меня, например, был солидный запас и кругленький животик. Как видите, от прежней роскоши ничего не осталось.— Доцент показал пальцем на кожные складки, которые висели ниже пупка.— Получается, что каждый теряет в весе около 100—135 граммов в день. За месяц это будет три-четыре килограмма, за полгода больше пуда.
— В общем, вы правы, хотя такой подсчет несколько схематичен. Я уже говорил, что расход калорий зависит, в частности, и от веса человека, а т. к. вес у нас постоянно убывает, то, одновременно, уменьшается и расход калорий.
Но, несмотря на это, потеря в весе уже солидная. Когда меня арестовали в сентябре, я весил 72 килограмма. Сейчас вряд ли больше 50 кг. С этого момента прошло пять месяцев. Выходит, средняя потеря в весе за месяц около 2,5 кг.
— А сколько можно потерять в весе, чтобы остаться живым? — поинтересовался художник Лабковский.
— Видите ли,— продолжал я,— калории это еще не все. Для восстановления изнашивающихся клеток организма, образования гормонов и ферментов необходимы белки. Жиры и углеводы являются лишь энергетическим источником, а не «строительным материалом». Человеку нужно в день 70—100 граммов белковых продуктов. Абсолютный минимум равен 35 граммам, но лишь тогда, когда пища достаточная и условия жизни хорошие.
В нашем рационе, точнее, в пайке хлеба не больше 24 г белков, т. е. в два-три раза меньше нормы.
— И какие последствия от недополучения белков? — спросил Есалов.
— Разные болезни, т. к. защитные свойства организма уменьшаются. Характерными являются, например, безбелковые отеки, которые у многих уже наблюдаются. Но это еще не все. К недостатку поступления в организм белков присоединяется еще нехватка витаминов. Это приводит к таким заболеваниям как алиментарная дистрофия, цинга и пеллагра. Вот поэтому очень трудно дать какие-нибудь прогнозы. Лично я считаю, что до навигации с нами ничего не случится. Хочу, однако, повторить: злоупотребления водой и солью могут иметь печальные последствия и очень скоро.
Не могу сказать, что моя лекция подняла дух в камере, наоборот, все заключенные сразу как-то притихли, и лишь спустя некоторое время начались дебаты.
Я считал своим долгом говорить правду. Ложь все равно раскрылась бы месяца через два-три, когда начнутся недуги и болезни.
— Мрачные перспективы,— пробурчал Есалов.— А что, если мы останемся здесь до лета или осени? Все тогда сдохнем. Напрасно я не удрал, когда нас гнали от пристани в тюрьму.
Этот случай я помнил хорошо. Я шел почти рядом с Есаловым и с трудом вытаскивал ноги из непролазной грязи. Поток заключенных занял почти всю ширину дороги и, несмотря на старание конвоиров, нередко сливался с пешеходами.
Есалов имел вполне городской вид. Он был одет в добротное демисезонное пальто и модные ботинки с галошами. Голову украшала клетчатая кепочка с небольшим козырьком. Главное, однако, что его отличало от всех нас, был солидный, прямо-таки министерский портфель.
Есалов двигался сначала в середине шеренги, а затем, постепенно, передвинулся на ее край. Он смотрел то и дело назад, видимо, ожидая пешеходов, чтобы раствориться среди них.
В последний момент, однако, Есалов замешкался, может быть, струсил, и обратил на себя внимание конвоиров, которые его с руганью оттолкнули от пешеходов.
Почти все заключенные камеры обсуждали мою беседу. Собственно говоря, и без моих слов они прекрасно знали, что долго жить в таких условиях невозможно, и мое выступление лишь подтвердило их опасения. Каждый сделал свои выводы. Кто-то, возможно, решил ограничить употребление воды и соли, а кто-то, может быть, и нет. Голод трудно перебороть. Были и горячие головы. Краем уха слышал разговор двух уголовников, которые обсуждали возможности побега из тюрьмы.
— Это можно сделать только во время вечерней проверки, — сказал один из них,— когда нас всех погонят в коридор.
— Правильно,— ответил другой,— тогда кроме вертухая будет еще дежурный по тюрьме, а у него все ключи.
Я тогда не обращал внимания на эти разговоры и не принимал их всерьез. Позже я узнал, что выступление мое едва не погубило меня.
С этого дня ежедневно читались лекции на самые различные темы. Александр Дотц продолжал делиться с нами впечатлениями о Бразилии и Аргентине, доценты обсуждали вопрос современной техники, Лабковский рассказывал о художниках-импрессионистах, а я о Сванетии.
Хотя мы уже находились несколько месяцев в тюрьме, но медицинских работников пока еще не видели. О нашем здоровье не слишком заботились, если не считать санитарную обработку, которую проводили очень тщательно и довольно регулярно.
Волосы на голове стригли машинкой, прочую растительность бритвой. При желании можно было отрастить бороду, что я и делал. Вскоре я стал обладателем роскошной, густой, светло-русой бороды, которая на камерном конкурсе заняла первое место.
Странно, но, несмотря на скрупулезную «прожарку», мы от вшей не избавились. Уму непостижимо, откуда они появлялись. Каждое утро, проверяя свои из простыни сшитые плавки, я неизменно обнаруживал трех-четырех откормленных вшей.
Недалеко от меня лежал маленький, тощенький киргиз — учитель математики Тохтамыш, который весьма спокойно относился к этим довольно неприятным паразитам.
— У каждого человека имеются вши,— успокаивал он меня,— об этом говорит и одна из наших киргизских поговорок.
Тохтамыш прекрасно знал математику и физику, но я никак не мог переубедить его, что он ошибается.
Урки обычно брились и использовали для этой цели оконное стекло, которое умело приспособили, ломая его под определенным углом. Процедура эта, однако, была довольно болезненная, и вряд ли она приносила удовольствие.
Жители «подземелья», в том числе и я, находились, хотя и все время в темноте, но зато могли спать относительно спокойно. Дело в том, что остальные заключенные не имели достаточно свободного места, чтобы вытянуть ноги, за исключением тех, которые располагались на нарах. Все остальные сидели или вынуждены были класть свои ноги на соседа, что вызывало вполне естественное возражение.
Тогда на общем собрании было решено «организовать» нормальный сон для всех. С этого момента заключенные, лежащие и сидящие на нарах, должны были уступать свое место через определенное время тем, кто спал на полу.
Параша — Первые больные — Положение на фронте — Этапная камера — Медосмотр
Очень важную роль в жизни заключенных играла параша, и главным образом потому, что нас не водили на оправку. Параша стояла В углу камеры, почти рядом с дверью. Это была широкая деревянная бочка с двумя ушками и крышкой. Выносили парашу обычно утром. Через ушки продевали толстую палку, и двое мужиков с трудом тащили ее до уборной. Работу эту выполняли с большой охотой, так как представлялась единственная возможность подышать немного прохладным и относительно свежим воздухом. Правда, вскоре у нас уже не хватало силы справиться с этой работой, и ее выполняла дозобслуга — заключенные-бытовики.
Рядом с парашей расположились дристуны со своими шмотками и инженер Винтер. Винтеру просто не повезло. Он попал в камеру позже всех, когда лучшие места уже были заняты, и кое-как устроился около параши.
С его губ то и дело срывались крепкие слова, которые обычно сопровождались смехом окружающих. Собственно говоря, причин для веселья не было. Смеялись над доходягами, которые очень часто ходили за маленькой нуждой и нередко попадали мимо. Винтер, конечно, ругался, и понять его было нетрудно, тем более, что отмыться было нечем. Вода давалась лишь в ограниченном количестве, за исключением кипятка, который целиком использовали водохлебы.
Когда нас всех перевели в эту камеру, вертухай грозно объявил:
— Оправляться будете здесь. Запомните! Это вам не столица.
Первые дни камерной жизни каждый пользовался парашей, когда вздумается, и она была практически постоянно открыта. Винтер справедливо возмущался:
— Безобразие. Живем как в сортире. Нельзя же круглые сутки нюхать дерьмо.
Его поддержали. Воздух и без того был тяжелый. После коротких дебатов было принято решение организованно проводить оправку дважды в день — утром и вечером перед сном. Дристунам разрешалось пользоваться парашей в любое время
На следующее утро, еще до раздачи хлеба, староста камеры Вагнер, здоровенный детина, громогласно объявил начало оправки. Получилось столпотворение. К параше сразу ринулись человек десять, и вновь досталось Винтеру. Кто-то наступил ему на руку, а двое упали через него.
В камерах, как известно, не бывает стульев. Заключенные сидели или лежали на полу, и лишь часть из них размещалась на нарах.
— Так дело не пойдет,— сказал Вагнер, который любил порядок.— Вечером сделаем по-другому.
Он сдержал слово. Перед отбоем староста подошел к параше, снял с нее крышку и после этого сказал «Начинаем оправку,— и громко добавил,— я первый» Винтер сразу понял в чем дело и крикнул «Я второй», доцент Смирнов заорал с другого конца камеры «Я третий»,— кто-то из-под нар хриплым голосом произнес «Я четвертый», и все пошло как по маслу
В этот вечер 38 человек поочередно садились на парашу, и толкучки больше не было. Единственно — то и дело задавался вопрос, какой номер на параше? Обычно спрашивали те, которые лежали под нарами, чтобы не вылезать раньше времени.
Оправляться надо было очень быстро и аккуратно, чтобы не попачкать края. Последнее условие редко соблюдалось и главным образом дристунами, которые часто даже не успевали, как следует, снять штаны.
Бумаги в камере не было. «Аристократы» в первое время рвали белье на узкие ленточки и обматывали ими палочки-приколки от хлеба. Такие палочки были у каждого заключенного. Их делали в пекарне, чтобы приколоть довески хлеба к основной пайке.
Довольно скоро пришлось отказаться от такого расточительства, и перейти на палочки без материи Это было, конечно, менее удобно и эффективно Что касается основной массы заключенных, то они обходились прекрасно и без палочек.
В свободное время параша служила сидением. Обычно там устраивались «слухачи», которые по звуку определяли, в какой камере раздавалась баланда.
Да, тюремная жизнь была неразрывно связана с парашей, и не зря ей дали такое ласковое женское имя — «Параша».
Среди заключенных было немало таких, которые страдали сердечнососудистыми заболеваниями и язвенной болезнью. Многие из них на воле соблюдали строгую диету, во всяком случае, никогда не употребляли такой хлеб, который нам давали Они ели его с опаской, как и баланду, ожидая серьезных последствий и, конечно, в первую очередь обострения болезни.
Может быть, в первое время кое у кого из язвенников и побаливал желудок, но месяца через два, к их удивлению, все признаки болезни исчезли. Голод, оказывается, может быть и неплохим лекарем, но чаще всего он вызывал новые болезни и осложнял старые.
Мы отощали до предела. Кожа стала сухой, бледной, начала шелушиться, и была шероховата, как терка. На руках и ногах появилась петехиальная сыпь (кровоизлияния в волосяные фолликулы) — один из наиболее характерных признаков начинающейся цинги.
Многие жаловались на жжение во рту и сильное слюнотечение. У одних язык был ярко-красным, иногда как бы лакированным, у других разделенным трещинами на поля (так называемый «шахматный язык»).
Появились первые поносники или, как их окрестили, «дристуны». Без особого труда я поставил диагноз — алиментарная дистрофия (глубокие нарушения обмена веществ на почве голода) и авитаминоз (нехватка или отсутствие витаминов в пище).
Все мы превратились в дистрофиков с той лишь разницей, что у одних отмечались отеки (главным образом на нижних конечностях), а у других они отсутствовали.
Алиментарная дистрофия бывает трех степеней, из которых наиболее тяжелая третья. Такие больные напоминают ходячий скелет, обтянутый кожей. Степень определяется по ягодицам, точнее, по ее складкам. У тяжелых дистрофиков ягодиц практически нет и вместо них свисают складки, как кожа слона.
Наша худоба имела еще и другие последствия и, в частности, заметно влияла на сон. Мы спали не на перинах, даже не на соломенных матрацах, а на твердых досках, и отсутствие жирового слоя, а то и мышц (которые атрофировались), приводило к тому, что ноги и руки очень быстро немели. Каждые полчаса приходилось переворачиваться на другой бок, и сон поэтому был неглубокий.
Если для язвенников голод являлся в определенной степени лекарством, то для легочников он был виновником резкого обострения болезни.
В разных уголках камеры можно было наблюдать за людьми с впалыми щеками и лихорадочным блеском глаз, которые надрывно кашляли, придерживая рот платком, нередко окрашенным кровью.
В один из февральских дней к нам впервые пожаловала медицинская сестра. Она была одета в чистый белый халат и держала в руках деревянный ящик с медикаментами. Ей было не больше 20—22 лет. Из-под косынки выглядывала прядь светло-русых волос, и холодные серые глаза враждебно смотрели на нас.
— Больные есть? — спросила она и сжала губы.
Давно мы не видели женщин и совсем забыли, что существуют еще человеческие существа, которые созданы для любви.
Мы смотрели на медицинскую сестру с любопытством, как на чудо, но при этом испытывали не больше тревоги, чем мерин при виде кобылы.
Голод превратил нас в людей, которых лишь условно можно было назвать мужчинами.
Человек пятнадцать подошли к двери. Большинство из них жаловались на понос, и сестра налила им в маленький стаканчик мутноватую жидкость, вероятнее всего, экстракт дубовой коры.
Полуголодные, изможденные, одетые лишь в трусы или кальсоны, заключенные должны были вызвать сострадание у постороннего, но подобных чувств я не прочитал на лице медицинской сестры.
Вероятнее всего, она видела в нас злейших врагов родины, которых следовало бы уничтожить, а не лечить, тем более в такое время, когда все честные люди воюют на фронте.
Медицинскую сестру сопровождал дежурный по тюрьме, который своей внешностью резко отличался от «Квазимодо». Он был всегда свежевыбрит, надушен и отутюжен, но от этого не становился симпатичнее. Редко встречал я людей с таким ледяным взглядом, как у этого дежурного. Он всегда говорил ровным, бесстрастным голосом, а лицо своей неподвижностью напоминало маску. Лишь светло-голубые глаза выражали его чувства — ненависть и презрение к нам.
Конечно, в сравнении с нами, жалкими, истощенными и измученными, дежурный и медицинская сестра казались полубогами, со своей сытостью и благополучием.
Несколько дней спустя, вскоре после вечерней проверки, скончался первый житель нашей камеры. Никто не заметил, как это произошло.
Степанов, так звали его, работал скромным счетоводом, где-то в Московской области и попал сюда за то, что «восхвалял» немецкую армию. Собственно говоря, он сказал лишь одну фразу: «Ну и здорово прут немцы». Этого было достаточно, чтобы посадить его.
О смерти Степанова мы решили сообщить дежурному лишь через сутки, перед вечерней проверкой. Расчет был простой: в этом случае можно было разделить его пайку, а также баланду, которую давали по пол-литра к обеду и вечером.
Покойник лежал недалеко от меня под нарами, но хлеб и суп достались лишь ближайшим его соседям.
Ночью я заметил около него странную возню и услышал приглушенные ругательства и проклятия. Утром мне сообщили соседи по секрету, что уголовники выбили у Степанова золотые зубы. Использовали они для этой цели свои подкованные красноармейские сапоги.
С этого дня медицинская сестра почти ежедневно посещала нашу камеру. Она не ограничивалась только раздачей лекарств, но иногда также и осматривала больных и в первую очередь дристунов.
Осмотр сопровождался двумя командами: «Покажите язык! Опускайте штаны!» Больной после этого получал лекарство, а иногда следовала еще одна команда: «Забирайте вещи и выходите из камеры!» — Это означало перевод в больничную камеру и надежду на улучшенное питание.
Все чаще и чаще дристуны покидали камеру, но никого из них после этого мы больше не встречали.
Среди обитателей камеры были и грузины. Даже трое: Саная, Киквидзе и Лордкипанидзе. Саная — мужчина лет сорока с круглым лицом и медлительными движениями, в прошлом, видимо, полноватый, работал портным недалеко от Уланского переулка, где жили мои родители.
Киквидзе и Лордкипанидзе было больше пятидесяти. Они отличались горячностью и вспыльчивостью, как истинные южане. Крючковатые, ястребиные носы придавали их лицам хищное выражение. К тому же они были на редкость волосатые. Густые черные волосы покрывали не только руки и ноги, но также грудь и спину.
А вообще, это были милые люди, с которыми я часто беседовал. Меня удивило, что даже грузины — земляки «отца народов» оказались в тюрьме.
— Ай, кацо, это скверный и коварный человек, очень плохой человек, и мы, грузины, пострадали от него не меньше, чем русские и вы, немцы,— объяснял мне Лордкипанидзе.— Я его знаю давно, еще по Тифлису. Это страшный человек. Для него мет ничего святого.— Так он отзывался о Сталине.
Рядом с ним расположился раввин — один из бывших руководителей ленинградской еврейской общины, очень колоритная фигура с окладистой черной бородой, глазами навыкате и с пейсами.
Однажды к нему в тарелку попал кусок свиной кожи, который вызвал истинную зависть у его соседей.
Он суп не стал есть. Правоверный еврей должен употреблять только кошерную пищу и ни в коем случае свинину.
Раввин соблюдал законы своей религии, но он был исключением. Когда голод мучает людей, они обычно не придерживаются запретов религии и едят, что попало.
Не без основания во многих религиях существуют исключения из правил, когда можно пренебрегать установленными законами, запретами: когда человек в опасности, может умереть с голода и т. п.
Народ в камере оказался довольно разношерстным и не только по национальному составу (были русские, украинцы, немцы, евреи, грузины, молдаване...), но и по образованию и культуре. Здесь были почти полуграмотные мужики с одной стороны и доценты, профессора и высокопоставленные сотрудники наркоматов с другой.
Одни жили в бедности, другие были избалованы житейскими удобствами. Вполне естественно, что последние гораздо тяжелее переносили жизнь в камере и оказались менее приспособленными к ней.
«Вшивая интеллигенция», как ее презрительно именовали, чаще всего опускалась значительно быстрее и ниже остальных заключенных. Они нередко ходили немытыми и не следили за своей внешностью. Борцовский характер имели, пожалуй, лишь немногие из них.
Уголовники-рецидивисты или, проще говоря, «урки», в камере оказалось их не больше пяти-шести, но, в отличие от остальной массы, они держались крепко Друг за друга по принципу: один за всех, все за одного.
Этого количества обычно было достаточно, чтобы верховодить в камере и безнаказанно диктовать свои условия.
И в нашей камере они сделали попытку взять управление в свои руки, но просчитались. А дело было так: однажды в камере во время раздачи хлеба один из уркаганов по кличке «Малыш» утаил пайку хлеба, которая предназначалась бывшему доценту МВТУ им. Баумана. Последний был крупный мужчина ростом около 185 см, вес которого на свободе превышал сто килограммов. Поэтому, его как и доцента Смирнова, называли «слоном». Сейчас он стал таким же тощим, как и мы, и лишь широкий костяк говорил о его прежней мощи.
— Подлец! Верни сейчас же пайку! — сказал он довольно спокойным голосом.
«Малыш» пришел в ярость:
— Повтори падла, что сказал!
Тактика урок обычно рассчитана на неподготовленность и нерешительность противника и сводится к тому, чтобы ошеломить его и сразу без промедления нанести удар, когда его меньше всего ожидают. Обычно такой удар, чаще всего нанесенный в лицо, приводит человека в замешательство и имеет свое определенное психологическое воздействие. Ему кажется, раз противник вступает в драку без колебания, значит он сильнее, а эта мысль — первый шаг к поражению.
Всем стало очевидно, что драки не миновать. Доцент по своей натуре был очень уравновешенным и деликатным человеком и как все интеллигенты ненавидел драки.
Драка — это, по существу, ничто иное, как бессилие доказать свою правоту словами. Вероятнее всего, он решил сначала выяснить свои отношения с «Малышом» путем мирных переговоров, но потом понял, что таким путем ничего не добьется.
Знал он, видимо, и тактику блатных и поэтому сразу бросился на своего противника. Обхватил его шею руками и начал давить ее, одновременно прижимая уголовника своим весом к полу. «Малыш» сразу захрипел и посинел, но еще не сдавался, видимо, ожидая помощи от своих друзей.
Двое из блатных вскочили с нар, но два богатыря Васильев и Штауб преградили им путь.
«Малыш», увидев, что счастье ему не улыбнулось, сдался.
— Отпусти,— зашипел он,— твоя взяла.
Доцент получил свою пайку, и уркаганы с этого дня затихли. Они поняли, что в этой камере делать им нечего, и придется на время забыть свои блатные замашки и подчиняться большинству.
Голод мучил всех, но в некоторых случаях алчность и стремление к наживе оказывались сильнее. Пайка называлась «кровной», т.к. от нее зависели жизнь и здоровье заключенного, и меняли ее обычно лишь в исключительных случаях. В первую очередь это делали курильщики, которые не могли обойтись без табака. Позже к ним присоединились «спекулянты», которые покупали одежду, главным образом у «вшивой интеллигенции». Брюки можно было приобрести за три-четыре пайки хлеба, теплую рубашку — за одну-две. Покупали в рассрочку. В этом случае приходилось отдавать ежедневно, или через день, по договоренности, часть пайки.
Чтобы как-то компенсировать недостачу хлеба, «спекулянты» нажимали на воду и соль и в итоге перекочевали очень скоро в больничную камеру, откуда они больше не возвратились.
Пока еще никого не вызывали на допрос, и никто из нас не знал, что творится на воле и какая обстановка на фронте.
Лишь в одном месте можно было получить какую-нибудь, далеко не достоверную информацию — в бане у банщиков. Это были чаще всего местные «бытовики» (осужденные за бытовые преступления — растрату, служебные злоупотребления, спекуляцию, мошенничество...), имевшие небольшие сроки и дорожившие своим местом. Общаться с нами им запрещалось, но иногда мы узнавали от них кое-какие новости.
Дела на фронте были далеко не блестящие, и немцы уже заняли Белоруссию и Украину, Прибалтику и Крым.
Тяжелые бои шли в Московской области в ноябре 1941 года, и в одном из обрывков газет, который добыли наши курильщики, говорилось о том, что фашистские войска приблизились к Дмитрову и Яхроме, Истре, Нарофоминску и Серпухову. Немецкая группа армии «Центр» находилась уже в 27 км от столицы.
Но сейчас уже было начало 1942 года и, возможно, произошли какие-то изменения, но в чью пользу, мы могли определить только по физиономиям «вертухаев».
Когда дела на фронте шли хорошо, они ухмылялись и злорадствовали, а когда немецкие войска наступали, охрана смотрела на нас волком.
Мне казалось, что их лица вновь стали ехидными, из чего я сделал заключение, что наступление немцев было приостановлено. (30.09.41 по 20.04.42 года — битва под Москвой. 5.12.41 г. наши войска перешли в наступление).
Не зря нас эвакуировали из Москвы в ноябре, и я хорошо помню, какая суматоха царила тогда в тюрьме. Пожалуй, нам повезло... Говорили, что оставшихся поставили к стенке.
После Нового года кое-кого из обитателей нашей камеры то и дело стали вызывать к следователю, причем допрашивали не в тюрьме, а в городе, где находилась КПЗ (камера предварительного заключения).
Один из них, маленький, тщедушный счетовод из Клина, принес небольшой отрывок газеты, в котором говорилось, что японцы разгромили на Гавайских островах в Перл-Харборе основные силы американского Тихоокеанского флота. Значит и там, так далеко от нас, шла война.
Большинство заключенных были уверены в своей невиновности и ходили на допрос без страха, с приподнятым настроением, надеясь, что там быстро разберутся. Возвращались, однако, чаще всего подавленными, хмурыми и неразговорчивыми.
И вот в один из холодных февральских дней уже на суд вызвали первого представителя из нашей камеры. Мюллер работал бригадиром в одном из совхозов Одесской области. Это был высокий, стройный блондин с волевым лицом, он лежал недалеко от меня в «подземелье».
Какие ему предъявили обвинения, мы не знали, было лишь известно, что он принадлежал к баптистам.
Он не скрывал свои взгляды на религию, и это, видимо, была одна из причин его ареста. С нетерпением мы ждали его возвращения. Всех волновал вопрос, насколько суров будет приговор суда. От этого зависела и наша судьба.
Мюллер вернулся поздно вечером. Коридорный с лязгом открыл дверь и остался стоять около нее.
— Быстрее! — скомандовал он.
Лицо Мюллера осунулось еще больше, и на нем лежала глубокая печаль. Это было лицо человека, потерявшего последнюю надежду. Он молча подошел к нарам, нагнулся и вытащил оттуда свои вещи.
— Ну как? — спросил его Есалов,— что дали?
— Вышку,— Мюллер махнул рукой.
— Разговорчики! — зарычал коридорный,— быстрее выходи с вещами! Что замешкался?
Дверь захлопнулась, и в камере сразу наступила гробовая тишина.
Каждый думал о себе.
Горячая волна прилила к голове, и лоб стал влажным. Неужели и меня ждет такой приговор, со страхом подумал я. А так хотелось жить. Сейчас его переведут в камеру смертников, и он может писать кассационную жалобу или просьбу о помиловании. А потом будет ждать месяц, два, три, а может быть и больше. Страшные будут дни, дни постоянной тревоги.
С этого дня настроение в камере резко ухудшилось. Все были подавлены. В трудные минуты, во время опасности, когда жизнь человека висит на волоске, реагируют по-разному. Многие вспоминают религию, даже те, кто давно от нее отрекся. Она — последняя надежда для тех, кому неоткуда ждать спасения. А вдруг есть бог, а вдруг случится чудо. Почему не использовать последний шанс? И мы начали молиться. Правда, некоторые из нас были верующими и молились всегда.
Мы, однако, не просто молились, а стали изучать библию, т.е. вспоминать главы из нее, начиная с «Ветхого завета». Ежедневно мы посвящали этим занятиям не менее часа. Я изучал в школе семь лет закон божий и помнил, в частности, первую главу о сотворении мира почти наизусть. Это дало мне возможность принимать активное участие в этих занятиях.
Все заключенные мечтали о весне, об открытии навигации и об этапе.
Жизнь в камере стала невыносимой. С каждым днем стало больше больных, росло число «дристунов». Сейчас парашей пользовались почти непрерывно, и воздух был не лучше, чем в привокзальном сортире. Оставаться здесь еще дольше означало верную гибель. Ежедневно вызывали людей на допрос, и уже пять человек после суда перевели в камеру смертников.
В один из апрельских дней нас перевели в огромную пересыльную камеру с трехъярусными нарами, где уж накопилось не менее 200—300 человек. Я нашел место на верхних нарах вместе с бывшим товарищем по школе Петером Бергманом. Он был сыном немецких коммунистов и был моложе меня года на два. Мы тогда вспоминали годы, проведенные в школе им. Карла Либкнехта в Москве. Петер очень переживал.
— Я сейчас ничего не понимаю,— жаловался он мне.— Меня воспитывали дома в духе любви ко всему, что делается в Советском Союзе. В школе нам говорили, что все делается для блага человека, во имя человека и что самый у нас ценный капитал — человек. Мы пели: «Я такой другой страны не знаю, где так вольно дышит человек». И я был уверен, что это действительно так. Когда посадили наших учителей: Гершинского, Люшке, Крэмке и др. и говорили, что они «враги народа», я этому поверил. А сейчас я сам очутился в тюрьме, и из меня хотят сделать пособника фашистов. Как это понять? Кому я должен сейчас верить?
Петер осужден по 58 статье УК «За антисоветскую агитацию и восхваление фашистского режима», погиб в 1942 году в лагере.
Камера напоминала муравейник. Люди ходили взад и вперед. Сидели и лежали на нарах, беседовали между собой, спорили, дрались.
Здесь делились новостями, и, конечно, торговали. Торговали те, у кого еще оставался табак, и те, кто хотел нажиться. Нажиться, конечно, за счет собственного желудка.
Хлопчатобумажные брюки продавались за две пайки, рубашка за полпайки. За пайку хлеба давали 3—4 спичечных коробка махорки.
О положении на фронте говорили по-разному, но все утверждали, что Москва не взята. Сейчас самые ожесточенные бои шли на Волге, и немцы уже были вблизи, не то в Сталинграде, не то в Саратове. Возможно, в скором будущем они подойдут и к Казани.
Одних это радовало, других огорчало. Удивительно, как быстро, в зависимости от положения на фронте, люди меняли свои взгляды. Вернее, стоило бы сказать, что большинство из них вообще не имело твердых взглядов или же боялось их высказывать.
Когда дела на фронте шли неважно, и немцы наступали, то многие из русских высказывали «пораженческие настроения», а метисы (те, у кого один из родителей был немцем) стали подчеркивать, что они немцы.
Когда же немцев отбрасывали назад, картина менялась. Все русские становились патриотами, а метисы превращались чуть не в чистокровных русских.
В один из вечеров Пауль позвал меня с таинственным видом.
— Пойдем со мной,— сказал он шепотом,— надо записаться.
— Как это понять?
— Сейчас увидишь.
Мы подошли к пожилому человеку в очках и с лысиной, по виду учителю дореволюционной гимназии, который расположился на нарах.
— Вот я его привел,— объяснил Пауль.
— Вы немец? — спросил очкастый и вытащил из подкладки пиджака маленький карандашик-огрызок и листок бумаги.
— Да.
— Ваша фамилия, имя, отчество? Я назвал себя.
— А в чем дело? — заинтересовался я.
— Мы должны составить список всех заключенных немецкого происхождения. Это потребуется, когда войска подойдут к Казани, чтобы исключить недоразумения.
— Неужели немцы так близко?
— Они на Волге, а это много значит.
Большинство заключенных не видели в своих действиях или высказываниях состава преступления, и им было совершенно непонятно, почему они оказались здесь. Свое недоразумение они выражали острой критикой в адрес партии и правительства, а чаще всего «любимого отца и гениального вождя всемирного пролетариата». Правда, не очень громко и с опаской.
Одни при этом оставались патриотами своей страны, другие были готовы продать ее... Но далеко не все придерживались тактики КВД (куда ветер дует) и не кривили душой.
Напротив меня, на нарах, сидел в полувоенной форме сотрудник НКВД, чуть не начальник тюрьмы — Прегаро, который в Белоруссии оказался в зоне оккупации и лишь с трудом выбрался оттуда. Это был человек с энергичным, волевым лицом, который не вмешивался в разговоры других и чаще всего был молчаливым и задумчивым. Он не критиковал, не ругал Советскую власть, не жаловался на свою судьбу, не высказывал свое недоумение. Он, видимо, пришел к заключению, что «так было нужно» и стоически ждал развязки.
В камере оказались и «урки» и среди них горбатый цыган, который отличался от других заключенных тем, что был довольно хорошо упитан. А вообще «урки» выглядели физически значительно лучше других, вероятно, потому, что имели побочные источники дохода.
Говорили, что цыган стал горбатым после «самосуда». Попался на краже и был нещадно избит.
Однажды после раздачи хлеба я услышал недалеко от себя крик:
— Пайку сперли, прямо из торбы,— завопил маленький, худущий старичок. Сразу почему-то подозрение пало на цыгана-горбуна, и трое мужиков, сохранивших завидную физическую силу, стали его обыскивать. Пайку нашли в рукаве телогрейки. Остальное произошло в доли секунды. Цыган слетел с нар, и вокруг него тотчас образовалось кольцо людей, которые начали избивать его методично и со знанием дела. Кулаки почти не принимали участия в этом самосуде, работали в основном ноги. Горбуна топтали и били носками ботинок. Он лежал, свернувшись, защищая лицо и голову руками. Удивило то, что он не издал ни единого звука. Крепкая была натура. После этого он отлеживался на нарах, молчаливо и угрюмо.
Как и в обычной тюремной камере, здесь также были дежурные, которые раздавали хлеб и передавали плошки с баландой.
Раздатчицы-указницы обычно отдавали остатки супа дежурным, и поэтому всем хотелось дежурить. В один из дней дежурным оказался мой знакомый, который, как и я, когда-то учился в школе им. Карла Либкнехта. Он ухаживал за Рут Холм — крепкой девицей с пышными формами и длинными светлыми волосами, которая мне также нравилась. Она, однако, избрала его.
Я очень надеялся, что он поделится со мной баландой, и поэтому устроился в обед около двери. Ему повезло. Он стал обладателем двух мисок, наполненных до края болтушкой, и острым глазом голодного человека я сразу заметил, что галушек было много. Раздатчицы, видимо, плохо перемешали болтушку и галушки остались на дне. Деревянные миски были здоровенные, рассчитанные на полтора-два литра, и вряд ли мой школьный товарищ одолеет их. Так, по крайней мере, подумал я.
Все-таки четыре литра мучнистой баланды — солидная порция для одного человека, даже если он голодный и дистрофик.
С первой миской мой приятель справился довольно легко и быстро, когда он взялся за вторую, наступила заминка. То и дело приходилось ему делать передышку. Он начал икать и время от времени откладывал миску в сторону. Я смотрел сосредоточенно на его миску, наполненную галушками, и молчал. «Сейчас он предложит мне доесть свою порцию, — подумал я,— все-таки мы учились в одной школе». Этого, однако, не случилось. Со страдальческим выражением лица, словно поднимаясь на эшафот, с великим трудом товарищ мой одолел и вторую миску.
Ближе к вечеру ему стало плохо. Появился жестокий понос, и он в буквальном смысле слова не отходил от параши. На следующее утро медсестра отправила его в больничную камеру. Как я узнал несколько позже, он скончался спустя три дня после своего дежурства. «А что если бы он поделился со мной?» — подумал я.
Всем заключенным было ясно — раз попал в этапную камеру, значит, предстоит дорога и, вероятнее всего, дальняя. Пожалуй, не было человека, который не мечтал бы о лагере, где свежий воздух, движение и работа. А возможно, и лучшее питание.
В тот день я получил как раз свою кровную пайку и сидел на нарах, не спеша запивая горячим кипятком сырой, как глина, хлеб. Мое внимание привлекли слухачи, которые стояли около двери и были чем-то взволнованы.
— В чем дело? — спросил я одного из них.
— Не знаю. В коридоре шум и какая-то возня. Может быть, собирают в этап.
Минут через десять дверь отворилась, и вертухай зычным голосом закричал: «Всем выходить из камеры! Без вещей! Ясно?»
— Наверно, будет шмон,— слышались голоса.
В коридоре я увидел стол, покрытый чистой белой скатертью, за которым сидел крупный мужчина в белом халате с явно семитскими чертами лица. Рядом с ним стояла медсестра.
— Всем встать в один ряд, друг за другом! Без шума! — заорал дежурный.— Когда подойдете к врачу, спустите штаны!
На заключенных было жалко смотреть. Ходячие скелеты, обтянутые сухой, шершавой кожей. От мышц бедер и голеней остались лишь тонкие жгуты и самой толстой частью конечностей оказались коленные суставы, делая нас похожими ма голенастых.
Лица у всех были почти одинаковые. Казалось, что все мы — братья. Щеки ввалились, скулы резко выступали, носы были заостренные, а цвет лица имел землистый оттенок. У многих наблюдался фурункулез.
Когда заключенные подходили к столу, то поворачивались спиной к доктору и спускали штаны ниже колен.
Врач не выслушивал и не выстукивал, не задавал вопросы. Все его внимание концентрировалось на ягодицах заключенных. По ним, в основном, определяли степень дистрофии.
Когда я подошел к врачу, то назвал, как положено, свою фамилию и постарался сделать жалкий вид. В этом не было особой нужды, т. к. я ничем не отличался от остальных. Единственное, был, возможно, несколько бледнее.
Врач сделал отметку в тетради и сказал сестре: «Следующий!»
После медосмотра все возвратились в камеру и долго обсуждали несколько своеобразный способ определения здоровья.
В больничной камере — Чесотка — Боос
На следующий день из этапной камеры, а которой было не менее трехсот человек, вызвали лишь несколько из них, в том числе и меня, с вещами. Нас направили в больничную камеру. Начиналась новая страница в моей тюремной жизни.
Камера была небольшая, с нарами, на которых уже расположились довольно свободно человек десять. Я окинул их быстрым взглядом. Хотя все дистрофики выглядят стариками и похожи как братья, существуют различия. Например, тот мужик с круглым черепом и раскосыми глазами наверняка татарин, а рядом с ним — нахальная рожа с бегающими глазами — обязательно уголовник-рецидивист.
Мне уступили место около окна. Рядом оказался слепой лет пятидесяти массажист из Москвы, по фамилии Боос.
— Вы немец? — спросил он меня.
— Да.
— Я сразу угадал по вашему акценту. По пятьдесят восьмой?
— Да.
— Значит, как и я.
— Какие здесь порядки? — поинтересовался я,— Как питание?
— Разница не существенная, но все-таки есть. Как-никак — это больничная камера, где режим несколько иной. Во-первых, можно спокойно лежать на нарах, даже когда придет дежурный. Вставать не надо. Парашей можно пользоваться круглые сутки. Что касается питания, то хлеба дают 550 г и лучшего качества.
— А суп?
— Баланда, как в обычной камере. Чаще всего дают болтушку из ржаной муки с галушками.
Все заключенные в этой камере находились еще под следствием и все по статье 58, даже «нахальная рожа». Она принадлежала вору-рецидивисту, который оказался в зоне оккупации. Говорили, что немцы дали ему дробовик и заставили охранять небольшой мостик.
И здесь царило безделие и скука. Это очень своеобразная пытка, которую далеко не просто перенести. Книг не давали, и я поэтому всегда старался найти себе занятие. Каждый вечер я составлял себе план на будущий день. Сшил себе трусы и плавки, сделал нитки и швейные иглы, слепил фигуры для шахмат...
Однажды в моей миске очутился здоровенный мосол — толстая трубчатая кость, видимо, коровья. Правда, без мяса. Я, однако, обрадовался и сразу сообразил, что из нее можно смастерить хотя бы швейные иглы.
Куски оконного стекла у меня были, и я стал выпиливать из кости узкие пластинки, которые потом отшлифовал кирпичом. Мои металлические иглы я давно обменял на хлеб, и кость была очень кстати.
Несколькими днями позже мне вновь повезло. Нам впервые дали возможность пойти на прогулку, и во дворе я нашел кусок толстой проволоки, из которой также решил изготовить иглы. Костяными иглами шить было не очень удобно. Проволока оказалась стальной, и я долго трудился над ней. На седьмой день я истратил все свои запасы стекла, пытаясь сделать отверстие, но проволока сломалась. Я чуть не взвыл от огорчения и долго не мог успокоиться.
Как и во всех камерах, здесь выбирали дежурных, задача которых была вынести парашу, принимать кипяток, хлеб и баланду.
В тот день была моя очередь. Я стоял у кормушки, принимал пайки и передавал их своему помощнику, урке с нахальной рожей по кличке «Фикса» (он носил «золотую» коронку из латуни). Пайки разыгрывали, т. к. попадались горбушки — наиболее желанные куски хлеба.
Пайки сразу не раздавали, а клали в кучу, а затем разыгрывали. Всем хотелось иметь горбушку, а их обычно было не больше трех-четырех.
И вдруг оказалось, что одной пайки нет. Я сразу понял, что это дело рук «Фиксы».
— Отдай пайку! — набросился я на него.
— Какую пайку? — спросил он, ухмыляясь.— Сам виноват, если не можешь считать до одиннадцати.
— Паек было одиннадцать. Одну украл ты.
— Я? — крикнул он.— Падла, повтори, горло перережу! Он подскочил ко мне, и я понял, что драки не миновать. Из опыта я знал, что лучшая защита в таких случаях — нападение и сразу бросил его на пол борцовским приемом. При этом я сдавил ему шею обеими руками, да еще помог себе коленями.
Трудность заключалась в том, что сил у меня могло хватить в лучшем случае на одну минуту. Если за это время «Фикса» не окажется побежденным, мои дела будут неважными, и пайки мне не видать.
Мышцы мои были настолько атрофированы, что я лишь с трудом передвигался. «Фикса» был в данный момент сильнее меня, т. к. сидел лишь три-четыре месяца.
Но уголовник посинел и захрапел. Лишь когда он дважды повторил:
«Отпусти, отдам»,— я разомкнул руки.
Я опасался, что «Фикса» набросится на меня, но этого не случилось.
— Жри! — зашипел он и со злым выражением лица вернул мне пайку. Однажды у меня появился резкий зуд в межпальцевых складках кистей рук, который особенно усиливался по ночам. Я был готов рвать кожу, жечь ее огнем, ошпарить кипятком. Одновременно появились мелкие пузырьки и сероватые, извилистые полоски с черными точечками, по которым я сразу определил, что у меня чесотка.
Я обратился к медсестре с просьбой, чтобы мне дали серную или дегтярную мазь, но она ответила коротко:
— Мази нет.
У нее было довольно миловидное лицо — пухлые губы, вздернутый носик и большие, серые, несколько испуганные глаза. Она смотрела на меня без особого сочувствия, даже враждебно. Мы здесь были для всех сотрудников тюрьмы — враги.
— А когда она будет? — поинтересовался я.
— Не знаю,— ответила она.
— А мне как быть?
— Очень просто,— вмешался «вертухай», — будешь чесаться. Там на фронте люди жизнь теряют. Обойдешься без мази. Не сдохнешь.
Вечера стали пыткой. Я старался сдерживать себя, не чесаться, но долго терпеть не мог. Ногтями сдирал кожу до крови и даже пытался прижечь наиболее зудящие места горящим фитилем.
Только через три месяца появилась черная серно-дегтярная мазь. Чесоточных было уже человек семь, у которых, как и у меня, все тело было покрыто гнойничками. Мы мазались толстым слоем с головы до ног и ходили в течение пяти дней голыми по камере, напоминая негров из экваториальной Африки.
Меня удивило еще одно "обстоятельство": на воле я всегда был очень стеснительным и никогда не позволил бы себе показаться голым перед чужой женщиной. Здесь же я не чувствовал стыда и не реагировал, когда молодая медсестра появлялась на пороге камеры, даже когда сидел на параше.
Голод или, выражаясь научно, алиментарная дистрофия, отражается также и на функции желез внутренней секреции и, конечно, на психике человека. Мы стали импотентами физически и духовно.
Тюрьму заметно разгрузили, и большинство заключенных, с которыми я прибыл в Чистополь, отправились в этап. Остались, видимо, лишь больные, те, на которых еще не поступили «дела» из Москвы, да и вновь прибывшие.
Теперь хлеб, обед и ужин давали вовремя и, наконец-то, водили на прогулку. Как положено шли по кругу и лишь самые слабые стояли, прислонившись к стене тюрьмы, и наслаждались свежим летним воздухом.
В камере мы даже не имели возможности смотреть из окна и кроме кусочка неба ничего не видели. Мешали «намордники» — деревянные щиты, закрывающие окна и оставляющие открытой лишь верхнюю часть. Кто их только придумал?
Невольно вспомнил картины русских художников, а также старые фотографии, на которых изображались заключенные. Чаще всего они стояли у окон, держась руками за решетки, и с тоской смотрели на вольный мир. Даже кормили птиц.
А сколько раз я читал в рассказах и романах о тюрьмах царской России, как заключенные прощались из окон со своими товарищами, которых отправляли на каторгу или на виселицу.
Мы этой возможности не имели. Как просто было в царских тюрьмах. В одном из губернских жандармских управлений была найдена интересная докладная:
«Что же касается вечерних переговоров политических арестантов через посредством окон, то прекратить таковые не представляется возможности особенно ввиду того, что мебель в одиночных камерах свободно переставляется с места на место и администрация тюрьмы лишена всякой возможности воспретить подставлять табуретки к окнам, т. к. для этого потребовалось бы выставить часовых внутри камеры».
У нас не было мебели, которую можно было бы переставить, кроме параши, да и всякая попытка вести переговоры с другими камерами кончилась бы незамедлительно карцером сроком на десять суток. Для нас, дистрофиков, это можно было смело приравнять к высшей мере наказания.
«Намордники» могли выдумать лишь те, кто долго сидел в тюрьмах, и знал, что окна — одна из немногих маленьких радостей заключенного и единственная связь с внешним миром.
В этой камере было просторно, да и воздух чище. Отпадала необходимость жить в «подземелье». Все спали на нарах. Нары, конечно, не перина, но зато здесь было всегда светло, и грязь не попадала в глаза.
Правда, когда поступили еще человек пять, появились неудобства. Ночью мы тогда лежали, прижавшись друг к другу, и даже не могли согнуть колени. Для экономии места должны были спать все на одном боку. В качестве подстилки использовали брюки и белье, но, несмотря на это, конечности быстро немели. Тогда кто-нибудь давал команду «на другой бок» — и все вместе дружно переворачивались. Эта процедура повторялась практически каждый час. О глубоком и приятном сне думать не приходилось. Правда, при желании можно было выспаться днем, когда остальные бодрствовали.
С Боосом мы подружились и, чтобы заполнить время чем-нибудь полезным, он меня обучал приемам массажа. Я со своей стороны получал для него хлеб и баланду. Нередко были случаи, когда в одной порции плавало двадцать галушек, а в другой три.
Вот поэтому каждый следил внимательно за тем, чтобы ему не обменяли плошку.
Босс не мог наблюдать за раздачей — он был слепым. Вот поэтому я предлагал ему свою помощь. Лишь однажды меня бес попутал. Я обменял миски. У него тогда в порции оказалось на редкость много галушек, а в моей их было единицы.
Боос, как всегда, перед тем как есть, поискал ложкой галушки и едва нашел их. Лицо его помрачнело, но он промолчал. Мне кажется, он заметил, что я замешкался, передавая миску, и в этот день был со мной неразговорчив.
Вот что значит голод, подумал я. Всегда считал себя честным человеком, неспособным совершить неэтический поступок... Видимо, для того, чтобы узнать самого себя, да и других, требуются экстремальные условия. Легко быть добрым и порядочным человеком, когда ты сыт и всем обеспечен.
В те часы, когда у меня не было желания играть в шахматы или шашки или что-то мастерить, я обычно беседовал с Боосом. И, конечно, при этом всегда затрагивали вопрос: а почему мы оказались здесь?
— Мне это совершенно непонятно,— говорил мой собеседник.— Я самый обыкновенный, простой, советский человек. Всегда трудился честно. Всю свою сознательную жизнь. Политикой особенно не интересовался и не выступал с речами на собраниях, и это вполне понятно. Я же незрячий. Возможно, иногда критиковал отдельные стороны нашей жизни в беседах с друзьями, но мне кажется, это невеликий грех. Без критики не может быть прогресса. Я же не фашист. Одними восхвалениями жизнь нельзя перестроить к лучшему. И это не может быть причиной ареста человека, тем более слепого, который и так обижен судьбой. Не так ли?
Что я мог ответить? Пожалуй, лишь согласиться с его доводами. Боос был прав. Я себя также не считал врагом советского строя, но был того мнения, что и при нем могут совершаться ошибки. Люди не ангелы.
Кончилось лето. Стало пасмурно, то и дело шел дождь, и в такие дни нас не выводили на прогулку. Меня словно забыли, и я оказался одним из немногих, которых еще не вызывали на допрос.
Снова в общей камере
Однажды, сразу после бани, последовал приказ дежурного:
— Всем выходить с вещами!
Неужели в этап, подумал я, и невольно радостно забилось сердце. Сначала шли по коридору, а потом, неожиданно, не спустились по лестнице, а поднялись на этаж выше. Нас перевели в другую камеру, где уже находилось десятка три заключенных. Кончилась относительно терпимая жизнь в больничной камере.
В этой камере находились в основном заключенные, прибывшие недавно этапом из Воронежа. Среди них были бывшие полицаи и старосты-мужики с натруженными узловатыми руками и грубыми лицами, словно вырезанными из дерева. На многих еще были одеты немецкие френчи и короткие широкие кожаные сапоги.
О себе они говорили мало и неохотно рассказывали о своей службе при немцах. Когда их упрекали, называли изменниками или христопродавцами, они обыкновенно отвечали: «Вам легко говорить. А попробовали бы побыть в нашей шкуре. Думаете, нам так и хотелось служить при немцах7 Они нас не спрашивали. А жить всем хочется. Да и детей надо было кормить».
На нарах не хватало места, и я устроился на полу рядом с молдаванами, среди которых выделялись отец с сыном и бывший офицер австро-венгерской армии Поклитаров, имевший даже сейчас еще молодцеватый вид и шикарные черные усы. Как он ухаживал за ними — оставалось загадкой Я подозревал, что он где-то спрятал маникюрные ножницы или маленький ножик.
Он всегда говорил то, что думал, и не боялся расхваливать бывшую австро-венгерскую империю и те годы, когда Львов еще назывался Лем-бергом.
Тяжело было смотреть на обоих Унгуряну, отца с сыном, особенно во время раздачи хлеба и баланды. Когда у старшего Унгуряну попадалась горбушка или более густой суп, чем у сына, он каждый раз мучительно боролся с собой: отцовские чувства требовали, чтобы они поменялись пайками и разделили галушки поровну между собой, голод препятствовал этому...
Да, голод никого не пощадил и всем принес страдания. Были попытки бороться с ним различными способами, но чаще всего они кончались печально. Среди тех, кто решил попользоваться для этой цели солью, выделялся маленький и тщедушный молдаванин Чолак, который никогда не расставался со своей большой деревянной плошкой, даже ночью. В это время он клал ее под голову, предварительно обернув телогрейкой.
С раннего утра он околачивался около двери и напряженно смотрел в ее сторону. Все знали, что Чолак ждет не только пайку, но с не меньшим нетерпением и кипяток.
Он выработал свою особую систему борьбы с чувством голода, которую строго соблюдал. Пайку он делил на три равные части. Одну часть клал в миску, добавлял туда почти литр кипятка и здоровенную порцию соли. Эту мурцовку он хлебал ложкой, но старался при этом не трогать хлебную кашицу. После небольшой паузы Чолак добавлял в плошку несколько меньшую порцию кипятка, слегка солил ее и на этот раз съедал все содержимое без остатка.
Таким же образом он расправлялся и с остальными порциями хлеба. Правда, не всегда сразу. Иногда после обеда и даже ужина.
В общей сложности Чолак выпивал за день не менее четырех-пяти литров воды. К вечеру он заметно округлялся, живот становился лягушечным, ноги превращались в толстые бревна. Ночью он вставал почти каждый час и бегал к параше, а к утру становился вновь тощим и тщедушным.
Чолак был не единственным поклонником подобной системы, он имел ряд последователей, которые, однако, употребляли несколько меньше воды и соли.
Трудно стало с кипятком — его часто не хватало, а число больных росло с каждым днем. То один, то другой переводились в больничную камеру.
Тот, памятный день, начался как обычно. Утром, услышав шаги коридорного, Чолак сразу вскочил с нар, держа плошку наготове. Загремели ключи, и дверь со скрипом открылась. В камеру подул холодный, сырой воздух.
— Выносите парашу! — рявкнул вертухай.
К параше бросились Поклитаров и молодой молдаванин Колак. По-клитаров надеялся по дороге к уборной узнать какие-нибудь новости у рабочих-заключенных, достать немного махорки.
Вернулись они минут через пять, но без параши.
— А где параша? — удивился Чолак, который больше всех в ней нуждался.
— Оставили во дворе для дезинфекции,— ответил Поклитаров.
Снова послышались шаги, и вновь загремели ключи. На этот раз принесли кипяток и почти одновременно хлеб.
Я, как всегда, очень не спеша, разделался со своей пайкой, а за это время Чолак уже выдул литра два кипятка и с тоской посматривал в сторону двери. Он ждал парашу.
Прошло немногим больше получаса, и заключенных охватило беспокойство. Чолак первым отложил миску и нервно стал ходить взад и вперед по камере, держа руки в карманах. Вскоре его примеру последовали еще несколько человек, т. к. мочевые пузыри у всех были слабые.
Я приучил себя выпивать не больше литра в день и пока не очень нуждался в параше. Но всякое терпение имеет свой предел, и через час у большинства жителей камеры мочевой пузырь властно потребовал опорожнения.
— Надо выяснить, в чем дело? — предложил татарин Мифтахутдинов и начал стучать в дверь.
Почти сразу открылась кормушка и показалась голова коридорного.
— В чем дело? — заворчал он.
— Нам забыли принести парашу,— ответил татарин.
— Никто ничего не забыл. Параша будет после обеда.
— Как после обеда? — с тревогой в голосе спросил Чолак.
— Чтобы меньше пили. Это распоряжение начальника тюрьмы.— С этими словами он захлопнул кормушку.
— Это называется «ход конем»,— комментировал Поклитаров.— Сразу решается проблема с кипятком, и будет экономия дров. Гениальное решение.
Заключенные начали двигаться уже шагом по камере, держа руки в карманах, но это в конечном итоге не помогло. Даже имея в достаточном количестве силу воли, не прикажешь своему пузырю — подожди.
Первым сдал позиции старый полицай из Воронежа Артамонов. Он полез под нары и в самом углу, под окном, оставил большую лужу. Чолак снял сапог, помочился в него и поставил под нарами. Сапог оказался дырявым, и все содержимое медленно стало вытекать. Двое других учли оплошность молдаванина и наполнили свои эмалированные кружки мочой. Кружки поставили в углу камеры.
Двое стариков из воронежского этапа слишком долго ломали себе голову вопросом, где найти подходящий сосуд, и в конечном итоге мокрыми оказались штаны. Кто-то использовал деревянную миску, его примеру последовали другие...
В это время, почти незаметно, открылась дверь, и на пороге рядом с надзирателем мы увидели начальника тюрьмы Мухутдинова.
Лицо его было непроницаемо, бесстрастно. Глаза смотрели холодно, словно в пустое пространство.
— Встать! — заорал коридорный.
Заключенные образовали вдоль стены, против нар, нестройную шеренгу и смотрели с тревогой на высокое начальство.
Мухутдинов обшаривал глазами камеру, и его взгляд упал на нары, под которыми красовались миски, кружки и прочий инвентарь, наполненный светло-желтой жидкостью, заметил он и лужи.
— Это что такое? — спросил он грозно.
— Нам почему-то парашу не дали,— начал объяснять Поклитаров,— другого выхода не было.
— Кто это сделал? — начальник тюрьмы рукой показал на сапог. Камера молчала.
— Заключенные, я вас еще раз спрашиваю, кто это безобразничал? — Он снова показал рукой в сторону сапога, а затем на миски, кружки и лужу.
Камера сохранила гробовое молчание.
— Камеру посадить на пять суток на карцерный режим,— приказал начальник, обращаясь к дежурному по тюрьме, который показался за его спиной.
— Не надо, гражданин начальник,— Чолак сделал шаг вперед,— это мой сапог.
— А это моя кружка,— сказал другой заключенный.
— А это моя,— прибавил еще один.
— Отведите их в карцер,— начальник показал рукой на виновников,— и остальных, которые насвинячили. Сейчас же. Запомните, заключенные,— он сурово посмотрел на нас,— согласно моему распоряжению парашу будете получать с сегодняшнего дня только после обеда.— Он сделал небольшую паузу и добавил, — почему? Сами знаете. В ваших интересах.
Не говоря больше ни слова, Мухутдинов повернулся, и покинул камеру.
— Вот номер,— возмущался Покпитаров,— в наших интересах?
Когда на следующее утро принесли бачок с кипятком, в камере уже не царило прежнее оживление. Никто больше кружки не выпивал и все со страхом думали о том, сумеют ли они дотерпеть или нет. Дистрофики, даже те, которые чрезвычайно мало употребляли воду, все равно очень часто бегали к параше. У всех были атрофированы не только мышцы рук и ног, но и мочевого пузыря.
Как всегда часам к десяти-одиннадцати в камеру поставили шайку с водой и тряпку для мытья пола. Обычно сразу после уборки стучали в дверь, чтобы вынести шайку.
Дежурным был художник Лабковский — добродушный неопрятный еврейчик, который с трудом справлялся со своими обязанностями. Вероятно, он никогда прежде не мыл пол. Он уже хотел стучать в дверь, но путь ему преградили двое «старост».
— В чем дело? — удивился Лабковский.
— Подожди, милок,— умоляюще произнес один из них,— дай помочиться.
Лабковский почесал затылок.
— Ладно, только вот что: один пусть караулит у двери. Если услышит шаги в коридоре — пусть предупредит.
«Староста» встал на колени перед шайкой, словно на молитву, и занялся своим неотложным делом. К нему присоединились сначала Боос, а затем еще несколько человек. Последних пришлось почти силой оторвать от шайки, т. к. она была уже наполнена до края.
— Хватит, отойдите! — ругался Лабковский, но люди его никак не хотели слушать, а толкали друг друга... В результате вокруг шайки образовалась большая лужа, которую пришлось дежурному вытирать тряпкой.
— Шаги! — крикнули «слухачи»... и все мгновенно подскочили, кое-кто с мокрыми штанами.
Когда открыли дверь, Лабковский лишь с большим трудом вытащил шайку в коридор, где ее забрали рабочие-заключенные.
— Так дело не пойдет,— сказал Поклитаров,— в один прекрасный день все равно заметят наши проделки, и камеру посадят на карцерный режим.
— А что делать? — спросил один из «полицейских».— Может быть ниткой перевязать нашу «пипирку»?
— В первую очередь надо, чтобы водохлебы сократили свой рацион, — предложил Поклитаров.
— А еще что?
— Чтобы шайкой прежде всего пользовались больные и старики, а затем остальные.
— У меня есть предложение,— вмешался Лабковский.— Когда дежурные пойдут за шайкой в уборную, надо, чтобы они ее наполняли водой лишь наполовину. Конечно, в том случае, если ее не принесут рабочие.
Заключенные довольно быстро приспособились к новым условиям, и вскоре даже водохлебы, которые до этого пришли в уныние, приободрились.
Однажды один из полицаев попытался внедрить новшество. Случилось так, что шайка была уже заполнена, а ему не разрешили пользоваться ею. Тогда он встал в угол камеры, помочился на пол, а затем начал вытирать лужу тряпкой. Вся камера возмутилась.
— Свинья!
— Падла!
— В следующий раз заставим тебя вылизать лужу!
Больше такие случаи не повторялись. Шайку держали как можно дольше, и никогда по собственной инициативе не выносили ее. Лишь тогда, когда ее требовал надзиратель. Таким путем постепенно приспособились обходиться без параши до обеда.
В КПЗ — Кто ты, Рудольф Шмидт?
Наступила зима. Вторая моя зима в Чистопольской тюрьме. И снова она оказалась на редкость суровой. От холода, однако, никто не страдал — своим телом согревали камеру, и лишь на прогулке мы ощущали жгучий мороз. Руки и лица мгновенно коченели, становились белыми как мел.
В один из декабрьских дней меня вызвали в коридор с вещами. Я был удивлен. Куда это меня? В этап? Вряд ли. Отсюда обычно отправляли лишь с наступлением навигации.
И вот я впервые после долгого перерыва вновь очутился на улице, правда, в сопровождении конвоира. Прохожих встречали лишь изредка. Они были закутанные, сжавшиеся от холода и спешили домой. Они провожали меня взглядом. Одни с сочувствием — это были чаще женщины, другие враждебно. Вероятно, видели во мне опасного шпиона.
Меня направили в КПЗ (камеру предварительного заключения). Камера, куда меня поместили, была просторная, с нарами и очень холодная. Ее, видно, не топили. Зачем? Здесь обычно людей не держали больше двух-трех дней и холод, безусловно, способствовал ускорению следствия.
По камере взад и вперед ходили шестеро мужиков, которые пытались согреться. У них были расстроенные и, как мне показалось, испуганные лица. Сразу видно, новички, впервые попавшие в подобное учреждение.
— Добрый вечер,— сказал я.
— Здрасьте — послышалось в ответ.
— Откуда пришли? — поинтересовался невзрачный мужчина с помятым испитым лицом.
— Из тюрьмы.
— Не из московского этапа?
— Да. А вы откуда знаете?
— Ходят такие слухи в городе, что привезли большой этап со шпионами, врагами народа и разными контриками. Давно сидите?
— Больше года.
— Охо! — в его голосе я уловил оттенок уважительности.
— А за что? — задал вопрос парень лет двадцати в рваной телогрейке.
— Трудно сказать. Дали пятьдесят восьмую.
— Значит за политику?
— Вроде так. А вы как попали сюда?
— По-разному. У кого документы не были в порядке, а кто самовольно ушел с завода. Ну, а я попал сюда за «скачок» (квартирную кражу).
Через час после того, как я очутился а КПЗ, принесли баланду — довольно густую мучную болтушку с галушками.
Когда надзиратель открыл «кормушку», обитатели камеры в нерешительности топтались на месте, и я решил взять на себя инициативу. Принимал миски и передавал их остальным. Лучшую порцию оставил себе.
— Не хочу,— сказал довольно прилично одетый мужчина в очках. Я сразу обратил внимание на его щегольские белые бурки, обшитые кожей. Похоже, что это был работник торговли.
— Давайте сюда! — приказал я и отобрал у него миску. И еще один из задержанных отказался от еды.
— Не до этого,— объяснил он.
Меня это вполне устраивало, и впервые за год я ощутил чувство сытости или, точнее говоря, полноты, после того как справился с тремя порциями.
Кто-то дал мне еще кусок хлеба, и я блаженствовал. «Какое счастье,— подумал я, — что попал в КПЗ и жаль, если ненадолго».
Сидящие в камере пока еще страдали отсутствием аппетита и находились, выражаясь медицинским языком, в «шоковом» состоянии. Переход от вольной жизни к тюремной для многих большая психическая травма.
На допрос меня вызвали на следующий день после того, как я не без труда одолел добрых три литра густой баланды.
Следователь сидел за письменным столом и смотрел на меня испытующе. Это был блондин, лет тридцати, с мутными глазами и широким утиным носом. Не красавец. К тому же уши у него оттопыривались.
— Садись! — приказал он и показал рукой на табуретку, которая находилась в трех шагах от него.
Следователь не спеша начал листать мое дело, а затем, внимательно посмотрев на меня, спросил:
— Ты где учился?
— В Первом Московском медицинском институте.
— Хотел быть врачом?
— Да.
— А вместо этого занялся контрреволюционной деятельностью? — Я промолчал.
— Молчишь?
— А что сказать? Контрреволюционной деятельностью я не занимался.
— Ладно, об этом поговорим потом. Сначала вот что: расскажи подробно, с кем дружил, когда учился в институте.
— Я, кажется, об этом уже говорил.
— Возможно, но не мне. Поэтому повтори.
«Чего он хочет от меня,— подумал я.— Неужели еще кто-нибудь из моих друзей проговорился?»
Я стал рассказывать о Гельмуте и Аскольде, не забыл также Петера и Пауля, даже вспомнил знакомых девушек. И только об одном человеке я не сказал ни слова. Для этого у меня были основания.
Следователь слушал, записывал и делал кислое лицо. То, о чем я сообщил, не могло его интересовать. Своих друзей я охарактеризовал лишь с положительной стороны. Им осталось только приделать ангельские крылышки.
— Хитришь,— сказал он зло,— нечего морочить мне голову. Я не маленький.
Он немного помолчал, раскрыл коробку папирос и закурил.
— На тебя, между прочим, поступили дополнительные материалы,— сказал он.— Вот почему ты остался здесь в Чистополе. Может быть, сейчас ты вспомнишь еще кого-нибудь из своих друзей?
— Нет. Я имею в виду друзей, а не шапочных знакомых. Таких я мог забыть.
— Не о них речь.
И вдруг я почувствовал страшнейшую боль, словно кто-то ударил меня ножом в живот. Я чуть не вскрикнул, и пот выступил на лбу. Такие адские боли бывают при прободной язве желудка, почечно-каменных коликах и завороте кишок. Желудком и почками я не страдал, а заворот кишок мог быть.
Совсем недавно, часа три тому назад, я съел большую порцию тестообразных галушек, которые могли закупорить кишечник.
Известно, что в России, после поста, во время масленицы многие погибали от заворота кишок, объевшись блинами.
Боль была страшная, и лишь с великим трудом я сдерживал себя. «Что дальше делать,— подумал я.— Как терпеть ее? Следовало бы очистить кишечник, т. е. пойти в уборную, но как? Сказать об этом следователю? Он использовал бы мое бедственное положение в своих целях. И пришлось бы тогда сидеть здесь до утра, если раньше не умру или не накладу в штаны.
Я стиснул зубы и продолжал отвечать на вопросы. Следователь, неожиданно, переменил тему.
— Как тебе нравится в КПЗ? — спросил он.
— Холодновато,— ответил я.
— А в тюрьме?
— Там наоборот душно и жарко.
— А где тебе больше нравится?
Я понял, что это ловушка и поэтому ответил не так, как думал.
—В тюрьме лучше.
— Хорошо. Тогда будешь здесь сидеть, в КПЗ, пока чистосердечно не расскажешь о своих преступных действиях. А сейчас можешь отправляться в камеру. Советую тебе там подумать хорошенько обо всем...
Пришел конвоир. По дороге в камеру я остановился около уборной.
— Гражданин начальник,— обратился я к нему,— у меня сильный понос. Разрешите, пожалуйста.
— Ладно, валяй,— ответил он,— только поторапливайся.
Кишечник освободился с треском, словно выпал кирпич, и сразу стало легче. Боль исчезла, и я вздохнул облегченно. Значит, заворота не было. Два последующих допроса ничем не отличались от предыдущих. Снова те же надоедливые вопросы о моих друзьях. И вот, когда меня вызвали в очередной раз, без всяких предисловий, будто беря быка за рога, следователь задал мне вопрос, на который очень не хотелось отвечать.
— Ты знаешь такого Рудольфа Шмидта?
Тогда я невольно вспомнил длинную историю, которая для меня так и осталась загадкой...
...Это было, если не ошибаюсь, в середине 1939 г., когда я учился в 1 Московском медицинском институте. В то время в Столешниковом переулке существовал читальный зал иностранной литературы, который размещался в небольшой церквушке. Здесь можно было познакомиться с немецкими журналами, чаще всего антифашистскими, а также почитать книги, которые в другом месте не найти, как, например мемуары Казаковы или сказки «1001 ночи» издательства «Инзельферлаг».
Нашел эту читальню мой друг Пауль Донцов. Я приходил сюда регулярно раз в неделю и занимался чтением.
Однажды я обратил внимание на мужчину несколько выше среднего роста, который, как мне показалось, внимательно изучал меня.
Я принадлежу к тем людям, которые плохо запоминают лица, особенно если они заурядные. Но у этого человека было запоминающееся лицо. Светло-русые волосы были зачесаны назад, несколько выступали скулы. Серые глаза смотрели спокойно. Я сразу обратил внимание на удивительно здоровый цвет лица — кровь с молоком, как в таких случаях выражаются. Нос, волевой подбородок и особенно надбровья напоминали мне физиономию классного боксера. Почти чисто арийское лицо, если бы не выступающие скулы. И еще одно бросилось в глаза — выправка. Он ходил медленно по залу, выпячивая грудь и высоко поднимая голову, как кадровый прусский офицер.
Он подошел ко мне и спросил: «Разрешите сесть рядом с вами" — и устроился на свободном стуле.
— Меня заинтересовали ваши журналы. Я не знал, что здесь можно достать немецкие. Как они называются?
— АИЦ — Иллюстрирте Арбейтер Цейтунг (иллюстрированная рабочая газета). С 1933 года этот журнал издается в Праге. Сейчас он носит другое название — «Фольксиллюстрирте».
— Можно посмотреть один из журналов?
— Пожалуйста.
Он перелистал журнал с интересом, а затем спросил:
— По вашему акценту чувствуется, что вы немец. Это так?
— Да.
— Но мне кажется, что вы не из немцев Поволжья? Вы говорите «хохдойч».
— Да. Вы правы. Я жил в Германии.
— И давно вы оттуда? — Мой собеседник перешел на немецкий язык.
— Лет семь.
Началась обычная беседа, стандартные вопросы: где я жил в прошлом, где учился и т. п. Мой новый знакомый говорил без акцента, но обороты речи не всегда были правильными. Говорил он медленно и делал короткие паузы, видимо, чтобы найти подходящее слово.
— А вы тоже немец? — поинтересовался я. Его манера говорить напоминала мне немцев Поволжья, которые долго не имели возможности говорить на родном языке.
— Да. Отец родом из Саарбрюкена, попал в плен во время первой мировой войны. Женился здесь и решил остаться в России.
Когда я сдал журналы и собирался покинуть читальный зал, мой собеседник тоже встал.
— Вы домой? — спросил он.
— Да.
— В какую сторону пойдете?
— К метро.
— Тогда пойду с вами, если не возражаете.
— Пожалуйста.
Мы вышли на улицу.
— Простите, как вас зовут? — обратился он ко мне и улыбнулся. Я назвался.
— А вас?
— Рудольф Шмидт.
— А чем занимаетесь?
— Работаю на авиационном заводе. Летчик-испытатель. Если не ошибаюсь — единственный из немцев.
Мы спустились по улице Горького вниз, в сторону Красной площади. Около кафе «Мороженое» мой спутник остановился.
— У меня предложение. Вы любите мороженое?
— Честно говоря, очень.
— Тогда зайдем сюда и отметим наше знакомство. Рудольф заказал пломбир-ассорти и шампанское.
— Извините меня,— сказал он,— может быть, я назойлив, но у меня здесь в Москве нет знакомых среди немцев. Не с кем поговорить на
родном языке, а забывать его не хочется. Сюда я приехал недавно, а все мои родные живут на Урале.
— Я вас понимаю. У меня сейчас почти такое же положение. В институте немцев почти нет, я их, во всяком случае, не знаю, а со старыми друзьями, с которыми учился в школе, связь почти потеряна.
Мороженое оказалось на редкость вкусным, и мы ели его с большим аппетитом. Когда принесли шампанское, Рудольф разлил его, а затем поднял свой бокал.
— За ваше здоровье,— произнес он. Мы чокнулись, а затем, не спеша, осушили бокалы.
— Вы часто бываете в читальном зале? — спросил Рудольф.
— Обычно по воскресеньям.
— Тогда мы еще встретимся,— ответил он.— Там интересная литература.— Мы еще немного побеседовали, а затем направились в метро, где разошлись.
В следующее воскресенье я вновь посетил читальный зал и сразу увидел Рудольфа. Перед ним лежала куча немецких журналов. Он приветливо помахал мне рукой и сделал жест, чтобы я присоединился к нему.
Я взял книгу В. Бределя «Испытание» и сел на свободное место рядом со своим новым знакомым. Мы поздоровались, а затем углубились в чтение.
Мне трудно сидеть долго без движения, и обычно через каждый час я. выходил в коридор, чтобы размяться. На этот раз Рудольф тоже последовал за мной.
— Долго собираетесь пробыть здесь? — спросил он.
— Пожалуй, не больше двух часов.
— А потом куда?
— Даже не знаю.
— У меня предложение. Пойдемте в Парк культуры. Там погуляем, побеседуем, ну и, конечно, пообедаем. Вы не против?
— Нет. Меня это вполне устраивает.
Вскоре мы покинули читальный зал и направились в метро.
— У меня просьба,— обратился ко мне Рудольф, когда мы спустились по эскалатору.
— Какая?
— Я вам уже говорил, что почти не имею возможности говорить по-немецки. Поэтому могу делать ошибки, а то и просто не могу найти подходящих слов. Пожалуйста, поправляйте меня.
— С удовольствием,— ответил я.
Исправлять Рудольфа приходилось довольно часто. Страдали обороты речи, расстановка слов, беден был словарный запас.
Я заметил, однако, что Рудольф редко повторял ошибки, на которые я ему указывал. У него была отличная память и хорошие лингвистические способности.
— Вы говорите на прекрасном «хохдойч»,— сказал он, когда мы
прибыли в парк,— не то, что наши немцы из Поволжья. Кстати, вы где жили в Германии?
— В Берлине.
— В Берлине? Там же говорят на ужасном диалекте.
— Совершенно верно. Но разговаривать на нем считается плохим тоном, конечно, в хорошем обществе. Это язык простых людей и язык улицы.
— Как понять язык улицы?
— Очень просто. Когда я жил в Берлине и играл со своими сверстниками на улице, то все мы говорили на берлинском диалекте или жаргоне. Между прочим, очень сочном, выразительном и остроумном. Правда, и несколько вульгарном. Дома мне не разрешали говорить на жаргоне, и я тогда переходил на литературный язык или «хохдойч».
— Интересно. А какие отличительные черты у этого диалекта?
— Я не лингвист и мне легче говорить на «берлинском», чем объяснить его. Но существует ряд характерных особенностей. Например, слово «Менш» (человек) употребляется чрезвычайно часто, в т. ч. и как обращение вместо имени или слова «ты».
Берлинец говорит не «их» (я), а «ик» и заменяет постоянно букву «г» на «е», например, вместо «гестерн» (вчера) «естерн», вместо слова «готт» (бог) «ётт», вместо «гут» (хорошо) — «ют»...
— Вы говорили, что берлинский диалект очень остроумный. Может быть, приведете несколько примеров?
— Это довольно трудно, т. к. дословный перевод искажает сочность, и теряется «изюминка». Но, попробую, если человек длинный, берлинец говорит: «Если он в пасху простудил свои ноги, то начинает чихать в троицу». Другой вариант: «Он может пить из водосточного желоба».
О лысом говорят, что он «расчесался пылесосом», или «жаль, что голова загнивает — из нее вышел бы отличный бильярдный шар». Если человек искривлен, то «косит одним плечом». Кто косит, «смотрит левым глазом в правый боковой карман». У кого ноги потеют — у того «сырные ноги». Для крепких напитков такие названия: «медленное самоубийство», «взгляд в загробный мир», «кровавая язва»... Пекарь — булочный архитектор, маляр — кистомучитель, аптекарь — ядосмешатель, парикмахер — мордоскоблитель, зубной врач — мордожестянщик. Если платье у дамы имеет слишком глубокий вырез — она использует пупок вместо брошки.
Но еще раз хочу повторить, на русском языке это не звучит. В парке мы сначала пошли в ресторан. И здесь, так же как и в кафе-мороженое, Рудольф предупредил: «Платить буду я. Вы студент, а студенты, как известно, бедный народ». Я запротестовал.
— Не возражайте,— ответил он,— я тоже был студентом и знаю, что это такое.
О себе и своем прошлом Рудольф почти не говорил и предпочитал расспрашивать меня и слушать.
После обеда мы прошлись немного по парку, а затем сели на одну из скамеек. Разговор шел о репрессиях, которые имели место в 1936— 37 гг., и я выразил свое сомнение в их правомерности.
— Не верю, чтобы такие заслуженные деятели и военачальники как Бухарин, Рыков, Блюхер, Тухачевский, Гамарник, Дыбенко... были врагами народа. Также не верю и знаю, что мои родные не могли быть изменниками родины и контрреволюционерами. Здесь что-то не то.
— Возможно,— не очень определенно ответил Рудольф.
Когда вопросы затрагивали политику, он чаще всего ограничивался туманными высказываниями, из которых трудно было определить, на чьей он стороне.
В других случаях он мне казался настоящим немцем, который хотя и живет в другой стране, но переживает и болеет за свою родину и гордится ею.
Вот так мы и сидели в тени парка, и оживленно беседовали. Но нас интересовала не только одна политика. Нас привлекали не менее остро и представительницы прекрасного пола. И даже ведя беседы на серьезную тему, мы провожали взглядами каждую симпатичную девушку.
— Вы женаты? — спросил я.
— Нет, но у меня есть подруга.
— Кто она? — поинтересовался я.
— Жена одного ответственного работника, который значительно старше ее. Он целиком поглощен работой и не очень справляется со своими супружескими обязанностями.
— Значит, вы выручаете ее?
Рудольф улыбнулся.
— Пожалуй, да. Я однажды видел ее супруга. Во всяком случае, не Аполлон. Небольшого роста, хилый, со впалой грудью, остроносый и в очках. Но по глазам видно, что умный мужик. Да, поскольку начали разговор о женщинах, к вам просьба: познакомьте меня с какой-нибудь хорошенькой немкой. У вас, наверное, есть такие на примете. Этим способом можно значительно быстрее освоить тонкости языка.
— В принципе да. Знакомые девушки у меня есть, но я должен знать, что вы от них хотите? Только получить уроки немецкого языка, или еще что-то?
Рудольф засмеялся.
— Меня интересует не только язык.
— Тогда все понятно. Постараюсь вам помочь.
Просьбу Рудольфа я выполнил недели через три, когда мы еще больше сблизились и уже перешли на «ты».
С Рутой Хольм мы учились в одной школе. Она была года на три моложе меня и внешне весьма привлекательна. Крепко сложенная фигура очень гармонировала с копной густых волос цвета спелой пшеницы и голубыми глазами, которые смело смотрели вперед. Она была без предрассудков и во всех отношениях современной девушкой.
Я договорился с ней о встрече, но пришел не один, а с Рудольфом.
После того, как мы час прогуляли по городу, я нашел предлог, чтобы оставить их наедине.
О результатах нового знакомства Рудольф высказывался неопределенно. Реакция Руты была отрицательная.
— Ну его,— ответила она недовольно,— больше с такими, пожалуйста, меня не знакомь.
Рудольфа, вероятно, больше привлекали внешние качества Руты, чем возможность заняться немецким языком, и действовал он, видимо, слишком напористо. Больше я не предлагал свои услуги в этом вопросе.
Рудольф имел отдельную квартиру и жил недалеко от Красных ворот, в одном из тихих переулков. Под звонком я прочитал другую фамилию.
— Это не моя квартира,— объяснил он.— Хозяин ее находится в длительной командировке, и я ее занимаю временно.
Могу ошибиться, но в квартире было, по крайней мере, две комнаты. Хотя я довольно часто посещал Рудольфа, он никогда не показывал мне свою квартиру и всегда приглашал меня только в комнату, расположенную справа от входной двери. Это было что-то вроде рабочего кабинета: стол, стулья и книжная полка с книгами на русском и немецком языках.
Здесь, в домашней обстановке, Рудольф казался мне другим человеком, несколько скованным и всегда чего-то ожидающим, особенно тогда, когда я приходил к нему без предупреждения, без предварительного звонка. Создавалось впечатление, что ом всегда чем-то встревожен.
Нередко к нему приходили гости и всегда очень ненадолго, минут на пять-десять, редко больше. Я их никогда не видел. Услышав звонок, Рудольф предупреждал: — Посиди здесь без меня. Скоро приду.
Часто я слышал, как он в коридоре с кем-то перешептывался или же провожал своего гостя не то в кухню, не то в другую комнату. Все это казалось мне очень странным и таинственным, если не подозрительным. Довольно часто мы посещали с ним «Метрополь». Мне казалось, что он здесь завсегдатай, т. к. многие посетители, а также метрдотель и официанты здоровались с ним. Что ж, как летчик-испытатель он мог себе позволить такую роскошь.
Однажды рядом с нами оказались немцы из Германии. В то время отношения с Германией улучшились. 23 августа 1939 г. был заключен договор о ненападении, и в прессе уже меньше писали о «коричневой чуме» и «коричневом терроре». Немцы были спортивного вида, лет тридцати — сорока.
— Наверно, представители фирмы,— сказал Рудольф.
— Возможно,— ответил я.— Двое, во всяком случае, имеют высшее образование.
— Откуда ты знаешь? — удивился Рудольф.
— Очень просто. По рубцам на лице. Так называемые «шмиссе». У студентов реакционных организаций, да не только, есть свой кодекс чести и принят так называемый «мензур» — подобие дуэли, когда противники дрались острыми шпагами без масок. Считалось даже неудобным заканчивать университет без этих шрамов, в которых видели знаки мужества.
Немцы скоро заметили, что и мы говорили по-немецки.
— Вы откуда? Не из Поволжья? — спросил один из них в толстых роговых очках.— А может быть, эмигранты?
— Ни то и ни другое,— ответил я и объяснил им наше происхождение. Нас, конечно, интересовало положение в Германии, как живут люди, какая царит сейчас там атмосфера, как решается проблема безработицы. Одно дело читать об этом в газете, другое — услышать от очевидцев. Немцы, действительно, оказались представителями фирмы.
— Безработица? Ее сейчас нет,— услышали мы. По словам наших собеседников в стране произошли значительные положительные изменения. Идет большая перестройка, всем хватает работы... Ответы, которые мы получили, были сказаны весьма оптимистическим тоном.
Хотелось бы услышать подробнее об отношениях к евреям, коммунистам, но немцы вскоре закончили трапезу, попрощались с нами и покинули зал.
— Интересно, из какой области они? — спросил меня Рудольф.— Ты это можешь определить по выговору?
— Могу сказать лишь то, что господин в роговых очках с северо-запада, Гамбурга или Бремена, а тот, со шрамом на правой щеке, саксонец.
— Почему?
— Немцы обычно произносят буквы «ст» как «ш». Они, например, говорят не «стайн» (камень), а «штайн», не «стул» (штуль), а «штуль», не «стунде» (час), а сштунде»... Живущие на северо-западе этого не делают и произносят «ст» как «ст». Что касается саксонцев, то у них особенная интонация.
Мы нередко затрагивали вопросы языка, и Рудольф откровенно восхищался русским языком, считая его самым богатым. Я возражал, и тогда начинались споры... Каждый стремился доказать, что он прав, хотя мы оба не были лингвистами, и, по существу, это был бесполезный спор.
— Вот посмотри, сколько в немецком языке диалектов, которые существенно отличаются друг от друга.
— В русском языке их не меньше,— парировал мой друг.
— Да, но эти диалекты любому русскому понятны. Иногда разница состоит в том, как, например, у волжан, что те «окают», а другие нет. А вот пойми «платтдойч» или диалект швейцарцев — это совсем другое Дело.
— Это все?
— Нет. Есть еще очень богатый охотничий язык, язык преступного мира (гаунершпрахе) и т. п.
— У русских тоже есть богатый блатной язык (феня).
— Тогда найди мне синонимы слова веревка.
Рудольф задумался.
— Веревка, канат, шнур, бечевка... больше не знаю.
— А в немецком есть: заиль, тау, биндфаден, штриппе, лейне, штрик, штранг, реп, фалл, троссе.
— Да, есть еще трос,— оживился Рудольф,— но этим ничего не докажешь. Это частный пример. А сейчас я задам тебе встречный вопрос — имя Александр знаешь?
— Конечно.
— А уменьшительных слов сколько будет в немецком языке?
— Пожалуй, только Алекс и Сандра,— ответил я несколько озадаченный.
— А посмотри, сколько их в русском: Саша, Сашенька, Сашка, Сашуня, Шура, Шурочка, Саня, Алексашка... их несколько десятков.— Рудольф торжествовал, и меня несколько удивила его реакция. Мне показалось, что он болезненно реагировал на мои доводы.
В конечном итоге мы поняли бессмысленность диспута.
В один из жарких летних дней мы отправились на Москву-реку купаться. Пляж был забит людьми, и лишь с трудом мы нашли свободное место. Разделись. На Рудольфе были весьма странные, как сетка, очень прозрачные плавки, которые, по существу, ничего не скрывали. Я бы в таком облачении постеснялся показаться на людях. Моего друга это, однако, не очень смутило и он, как всегда, выпячивая грудь, спокойно прошествовал по пляжу.
Он знал себе цену. Это был видный мужчина. Мы поплавали немного, а затем вернулись на берег. И тут только заметили, что почти рядом обосновались две молодые женщины, которые беседовали по-немецки. Одна из них — типичная немка, с волосами цвета льна и голубыми глазами, была крепко сложена и, с точки зрения Рудольфа, весьма «аппетитна». Другая черненькая, имела приятные еврейские черты лица и стройную фигуру.
Мы быстро нашли с ними общий язык и узнали, что обе эмигрантки. Блондинка, ее звали Эрика, работала в издательстве немецкой литературы и была вынуждена покинуть Германию по своим политическим убеждениям. Лило — ее подруга, как я и предполагал, была еврейкой. Причина вполне достаточная, чтобы оставить фашистскую Германию.
— Какие у вас планы на вечер? — спросила Эрика, когда мы начали одеваться.
— Собственно говоря, никаких,— ответил Рудольф.
— Тогда пойдемте ко мне пить кофе. Я как раз приготовила немецкий «кэзекухен» (творожный торт).
— От такого предложения грех отказаться,— сказал мой друг обрадованно не то из-за возможности вкусно поесть, не то побыть в обществе таких привлекательных женщин.
Эрика жила в просторной комнате, со вкусом обставленной. Мы устроились на диване, в то время как хозяйка переодевалась. Она открыла платяной шкаф и без особого смущения сняла платье, оставаясь в одном нижнем белье. Затем, не спеша, выбрала юбку и блузку в фольклорном стиле и надела их. Не без интереса мы наблюдали за этой пикантной сценой.
К тому времени Лило сварила кофе и поставила торт на стол. Он был великолепен, и мы съели его с большим удовольствием. Такие торты с толстым, желтым, жирным и нежным творогом я давно не ел.
Я посмотрел на часы. Было уже восемь часов вечера, и меня, вероятно, уже ждали дома.
— Мне пора идти,— сказал я.
— Неужели так рано? — в голосе Эрики звучало сожаление,— гложет быть, останетесь?
— С удовольствием, но я не предупредил, что задержусь. К сожалению, у меня нет телефона.
— Жаль, очень жаль,— сказала Лило.
— Но вы, конечно, побудете с нами,— обратилась Эрика к Рудольфу.
— У меня время есть,— ответил он.
Я встретился с Рудольфом дня через четыре у метро «Дзержинская». У него был как всегда цветущий вид и, так мне показалось, великолепное настроение.
— Жаль, что ты тогда ушел так рано,— сказал он, улыбаясь,— Лило очень рассчитывала на тебя.
— В каком смысле?
— В прямом.
— Это не ответ.
— Могу сказать точнее. Ты ей понравился, и она была не прочь провести с тобой ночку.
— Ты откуда знаешь?
— Мне сказала Эрика.
— А ты не смог заменить меня? — поинтересовался я,— У меня были другие планы.
— Эрика?
— Да.
— Ну и как?
— В двух словах не скажешь. Я был потрясен. Если хочешь знать, впервые встретил такую женщину. Огонь. Сначала она решила применить французский вариант, но он мне не понравился. Я немного подождал и дал ей волю, ну а потом продолжал уже по-своему.
Рудольф вел далеко не монашеский образ жизни, что было вполне объяснимо. От такого здорового тридцатилетнего мужчины, вдобавок еще холостяка, нельзя потребовать целомудрия. Однако, он не был ловеласом и развратником. Случай с Эрикой имел свое объяснение.
— Знаешь,— говорил он мне как-то, в начале нашего знакомства,— я же все-таки немец. Поэтому хочу не только в совершенстве знать свой родной язык, но также знать и психологию, и образ жизни немцев, в том числе и женщин. В Германию уехать невозможно, а вот общаться с нем-
цами можно. В Москве много политэмигрантов, а также специалистов. Но мне кажется, что легче всего усовершенствовать свои знания немецкого языка с таким человеком как ты или с хорошенькой немкой. Ну, а если она к тому же еще доступна, тогда это еще лучше.
Эрика была как раз то недостающее звено, которое помогло ему узнать еще одну сторону немцев. Интимную. В данном случае цель оправдывала средства.
Его поиски в этом направлении не всегда были успешными. Однажды он мне рассказывал: «Знаешь, с кем я познакомился?»
— Понятия не имею.
— С внучкой Вильгельма Пика.
Я ее помнил довольно смутно. Она также училась в школе им. К. Либкнехта, но была моложе меня, очень славная и скромная.
— Успехи были?
— Нет. Она мне очень вежливо объяснила, что близость допустила бы только в том случае, если бы я стал ее мужем. Сам понимаешь, что жениться я пока еще не собираюсь.
О своей работе он говорил мало. Только то, что приходилось летать. С конца весны, когда солнце уже пригревало, и в лесу появились первые проталины, Рудольф, видимо, большую часть времени проводил на свежем воздухе. Это можно было заключить по загорелому лицу, которое приобрело приятный, ровный коричневатый оттенок.
Он занимался парашютным спортом и, судя по его словам, на профессиональном уровне. Однажды, когда я пришел к нему на квартиру, он встретил меня на редкость возбужденно.
— Можешь меня поздравить,— сказал он радостно,— получил премию.
— За что?
— За затяжной прыжок с парашютом.
По его словам Рудольф прыгнул не то с восьми тысяч метров, не то еще выше и раскрыл парашют на очень близком от земли расстоянии. Другой раз он встретил меня, прихрамывая, опираясь на палку.
— В чем дело? — спросил я.
— Отказал мотор. Самолет пришлось посадить на картофельное поле. Хорошо еще, что только отделался ушибами и синяками.
Мы встречались с ним регулярно, обычно раз в неделю. Чаще всего по воскресеньям. Ходили в кино, иногда на концерты, нередко посещали кафе-мороженое на улице Горького. Обедать он предпочитал со мной в «Метрополе», где готовили очень вкусно. Вино не пили, лишь изредка шампанское.
Материально Рудольф жил, видимо, неплохо. Несколько раз мы ходили с ним на почту, откуда он посылал деньги родным на Урал.
Время было сложное и тревожное. Уже шла война. Польша была поставлена на колени, а немецкие самолеты уже бомбили города Франции и Англии, десанты высадились на Крите и в Нарвике...
Я относился к фашизму отрицательно, и было больно и обидно, что в
стране, которую называли страной поэтов и мыслителей, могли сжигать книги моих любимых писателей и преследовать евреев.
А чем виноват человек, если он родился евреем? Как это совмещать с христианской любовью к ближнему?
Но я не отождествлял Германию с фашизмом и а душе надеялся, что эти эксцессы — временное явление, перегибы... И в России существовали еврейские погромы.
Когда начались переговоры с Германией, и был заключен пакт о ненападении, я воспрял духом. Наконец-то здравый смысл взял верх над безрассудством и слепой ненавистью. Восторжествовали благоразумие и дальновидность. Хотелось думать, что в Германии не забыли слова Бисмарка о том, что дружба с Петербургом необходима, чтобы стать хозяином в Европе, и поняли, что вести войну с Советским Союзом бессмысленно.
В прессе почти уже не вспоминали о концентрационных лагерях, а когда передавали сводки о положении на фронтах, подчеркивали, что бомбардировке подвергались только военные объекты.
Война в Польше была для меня не очень понятна, тем более, что советские войска тоже воспользовались моментом и не без согласия Германии захватили западные области. Правда, Молотов называл Польшу уродливым детищем Версальского договора. Сталин, в августе 1939 г., в одном из тостов сказал: я знаю, как немецкий народ любит своего фюрера. Поэтому я хочу выпить за его здоровье.
Все это мне казалось странным и непонятным. Сталин хвалил Гитлера не однажды. Когда в 1934 году Гитлер уничтожил своего верного соратника Эрнста Рэма, на заседании Политбюро Сталин сказал: «Вы слышали, что произошло в Германии? Гитлер, какой молодец! Вот как надо поступать с политическими противниками». (По рассказу А. И. Микояна).
Быстрое и планомерное движение немецких войск во Франции, Дании, Норвегии, десантные операции на Крите и в Нарвике ошеломляли и вызывали во мне, как в немце, что-то похожее на чувство гордости. Но это не было гордостью. Как можно гордиться тем, что убивают людей. Война как таковая — отрицательное явление и несовместима с чувством гордости. Другое дело — талант полководцев, храбрость и бесстрашие солдат, летчиков и подводников. Именно эти качества вызывали во мне подобные чувства.
Об этом я и говорил в беседах с Рудольфом. Он также высоко оценивал боеспособность и дух германской армии, правда, высказывался не в таком возвышенном тоне, как я.
Он почти всегда соглашался с моими доводами, советовался со мной, и со стороны можно было подумать, что из нас двоих я был старшим.
Круг знакомых у Рудольфа был довольно обширный, но дружил он, по-видимому, только со мной.
Очень часто, когда мы прогуливались в центре Москвы, мы заходили в «Метрополь» или в какое-нибудь кафе, обязательно кто-то здоровался с ним. Что это были за люди — об этом Рудольф никогда не говорил. Среди его знакомых были также иностранцы и не только антифашисты.
Как-то Аскопьд, мой друг по институту, познакомил меня с очень интересным человеком, бывшим миллионером и коллекционером со странной фамилией Айшпор. Жил он в коммунальной квартире, в проходной комнате, двери которой заменяло одеяло. Комната была размером не больше восьми квадратных метров. Здесь стояли железная кровать, шкаф, большой деревянный сундук, чемоданы, стол и два стула.
Айшпор был стариком лет под семьдесят, сухоньким, небольшого роста, с изможденным интеллигентным лицом.
Судя по одежде и обстановке в комнате, ему жилось не очень хорошо. Совсем недавно он вернулся из ссылки (Великий Устюг), где находился почти десять лет.
В прошлом страстный коллекционер картин русских художников, он был экспроприирован, как многие подобные ему лица, и выслан. В нем видели представителя эксплуататорского класса, буржуя и классового врага и за это наказали.
С коллекциями ему пришлось расстаться. Пенсия ему не полагалась, и жил он тем, что потихоньку продавал акварели, рисунки и другие небольшие предметы искусства, которые чудом уцелели.
В сундуке и шкафу лежали большие папки с набросками очень известных русских художников и работы маслом Остроухова, Поленова, Васнецова, Бенуа и даже Репина. Аккуратно были завернуты в конверты старые монеты, лежали упакованные иконы, складни и многое другое.
Каждый раз после получения стипендии я приходил к старику, чтобы приобрести какое-нибудь из его сокровищ. Сначала купил две замечательные секиры XVII века, редкую полушку Петра Первого, а затем и картины, в т. ч. Айвазовского, Поленова и Верещагина.
Но далеко не все предметы его коллекции были мне по карману и среди них три, которые меня особенно заинтересовали: гривна весом около 200 граммов серебра, трехрублевая платиновая монета и великолепная икона, изображающая деву Марию, из кости мамонта холмогорской работы.
Была еще одна небольшая картина маслом по дереву с инициалами Альбрехта Дюрера. Был ли это подлинник, Айшпор не знал и берег эту картину на «черный день».
Однажды он попросил меня найти покупателя хотя бы для иконы, и я сразу вспомнил Рудольфа. Цена была сносная — 400 рублей.
Рудольф взял икону, но вернул ее недели через две. Иностранец, которому была предложена икона, видимо, ими не интересовался.
Мы были с Рудольфом самыми обыкновенными друзьями и проводили вместе свободное время не ради политических диспутов, а чтобы погулять, полюбоваться симпатичными девушками и сходить в кино.
Хотя мы часто были вместе, я совершенно не знал его прошлое. Рудольф не любил говорить об этом, а я по натуре своей никогда не страдал любопытством. Собственно говоря, какое мне дело до его прошлого. Важно, чтобы я знал, какой он сейчас.
Многое в нем было непонятно и загадочно. Насторожила меня его преувеличенная заинтересованность немцами. Это бросалось в глаза. И тогда я невольно задал себе вопрос: а кто он на самом деле?
В марте 1938 года, в один и тот же день арестовали моего отчима Григория Александровича Раппопорта и дядю Стефана Генриховича Аппинга. Моя мать ходила тогда почти каждые две-три недели на Кузнецкий мост, чтобы выяснить их судьбу, но лишь в конце 1939 года ей сообщили приговор: десять лет дальних лагерей, без права переписки. Значительно позже я узнал, что это означает расстрел.
Я также интересовался судьбой своих родных и в связи с этим обратился в соответствующую инстанцию. Там, однако, больше внимания уделили мне, задав целый ряд вопросов, которые не имели отношения к моим родным. Вспомнили моего старого друга Петера Донцова, позже написавшего на меня донос, его брата Пауля, а затем перешли к Рудольфу Шмидту. Кто он, откуда я его знаю, и кому он посылает деньги. Предупредили, что этот разговор не подлежит оглашению, и заставили подписать какую-то бумагу.
После этого я пришел к выводу, что за нами наблюдают. В этом случае я мог предположить, что Рудольф мне не враг и не приставлен ко мне.
Наступил 1941 год. В один из зимних вечеров я зашел к своему Другу на квартиру и как всегда устроился на стуле, рядом с книжной полкой. Кто-то позвонил.
— Я сейчас приду, подожди,— сказал Рудольф и вышел из комнаты. Он был одет в черные брюки и белую рубашку, а пиджак висел на спинке другого стула, в двух шагах от меня.
И вдруг я заметил на лацкане пиджака странный значок с изображением свастики. Я встал, чтобы рассмотреть его поближе, но в этот момент появился Рудольф.
— Любопытный значок у тебя,— сказал я как можно равнодушнее, словно дело шло о значке ГТО или ПВХО.
— Ничего интересного. Тебе показалось,— буркнул мой друг раздраженным голосом, схватил пиджак и вынес его из комнаты. Вернулся он минут через пять и начал меня расспрашивать о новостях, словно ничего не произошло.
«Откуда у него этот значок, и зачем он нацепил его на пиджак?» — невольно задал я себе вопрос. И тогда я вспомнил, что однажды Рудольф упомянул о том, что был в немецком посольстве. Значит, он надел значок со свастикой, чтобы показаться с ним в посольстве. Вопрос только, в качестве кого? В качестве немецкого подданного он бы мог позволить себе такую вольность, но только в самом посольстве.
Для советского человека это означало бы подписание собственного смертного приговора. Правда, с одним исключением — если он сотрудник контрразведки. Но в этом случае снова вопрос: зачем меня тогда спрашивали о нем? Словом, я так и не понял, на чьей стороне мой друг.
А несколько позже произошел странный случай. Я пришел к нему без предупреждения. Рудольф толкнул меня в свою комнату и предупредил, чтобы я не выходил. Делать было нечего, и я стал рассматривать книжную полку. И вдруг мое внимание привлекла книга в новой, яркой обложке, словно только что купленная в магазине. На обложке стояло: Адольф Гитлер. Майн Кампф.
Я был поражен и удивлен, однако, спокойно устроился на стуле и начал читать. Так меня и застал Рудольф. Увидев книгу в моих руках, он побледнел, и лицо его приняло свирепое выражение. Таким я его еще не знал.
— Плохо будет, если кому-нибудь скажешь,— произнес он угрожающим голосом и вырвал книгу из моих рук.
— Напрасно волнуешься,— ответил я спокойно,— мы же друзья.
— Ладно, забудем об этом,— сказал он более мягко и хлопнул меня по плечу.
И снова не понял я, кто он? Если работает на немцев, то было бы непростительной ошибкой держать у себя такую книгу и носить фашистский значок. Если работает в нашей разведке, тогда почему испугался? Может быть, из-за того, что я его раскрыл?
Мы продолжали дружить, словно ничего не случилось, и по-прежнему встречались.
В тот памятный вечер мы сидели в «Метрополе» и после сытного ужина выпили шампанского. Я вообще равнодушен к вину и пью лишь в особенных случаях, когда отказаться просто неудобно.
Люди разные бывают после употребления алкоголя — одни веселые, другие мрачные, а то и агрессивные, я же становлюсь добрым и щедрым, особенно к друзьям.
Как всегда, платил Рудольф, и мне вдруг стало стыдно за себя. «Что же получается? — подумал я,— пью и ем за чужой счет, называю себя другом, а держу в секрете, что за ним идет слежка. Какой же я тогда Друг?»
— А знаешь,— сказал я вдруг,— за тобой идет наблюдение.
— Как это понять? — Рудольф сделал удивленное лицо и нахмурил брови.
Тогда я передал ему содержание беседы, которая имела место в одном известном учреждении НКВД.
— Я не должен был говорить тебе об этом,— продолжал я,— но я считаю тебя своим настоящим другом, а среди друзей не должно быть секретов, тем более таких. Есть еще одно обстоятельство, которое заставило меня говорить об этом, не боясь последствий. Мне известно кое-что о тебе,— сейчас ты знаешь кое-что обо мне. Мы квиты.
Лицо Рудольфа стало серьезным и, видимо, он не знал, что ответить.
— Выпьем,— предложил я и поднял бокал с шампанским,— за нашу дружбу.
— Хорошо,— ответил он,— прозит, как немцы говорят,— и осушил свой бокал.
В один из майских дней, а может быть, и несколько позже, Рудольф сказал мне:
— Знаешь, в немецком посольстве страшная суматоха...
Я тогда не придал значения этим словам. Все выяснилось несколько позже.
22 июня, в воскресенье, около шести утра, меня поднял с постели телефонный звонок. Голос Рудольфа звучал необычно взволнованно.
— Плохие новости. Очень плохие. Война!
— Какая война? С кем война?
— Только что передали по немецкому радио, что германские войска начали военные действия и перешли нашу границу. Выступил Гитлер и обвинил Советский Союз в нарушении договора...
Когда я часом позже вышел на улицу, все было еще по-старому. Люди отправлялись на дачи, ходили по магазинам, лица их были веселыми. Никто еще не знал, что началась война.
Последний раз я встретил Рудольфа на улице в разгар лета.
— Не будем сейчас говорить по-немецки,— предупредил он меня серьезно с оттенком грусти,— скоро и меня заберут на фронт. Будет очень тяжело, и не знаю, чем все это кончится. Не знаю, когда мы с тобой еще встретимся. До свидания.
Мы обнялись.
Лишь через 25 лет я узнал, что Рудольф Шмидт был ни кем иным, как легендарным разведчиком. Героем Советского Союза, Николаем Кузнецовым.
Давно я ждал этот вопрос от следователя и вновь задумался. Лучшая тактика на допросе — выжидание и как можно короче отвечать на все вопросы. Не делать отступлений. Каждое лишнее слово может погубить.
Итак, я размышлял: кто же все-таки Рудольф Шмидт? Шпион? Осведомитель? Если он шпион, то не было необходимости прикреплять к лацкану фашистский значок и держать дома «Майн кампф». Это было бы архинеосторожно. Вспомнил и другое: Рудольф назвал себя летчиком-испытателем. А вот когда к нам присоединили прибалтийские республики, он летал неоднократно в Ригу, и привез мне оттуда шикарный фиолетовый костюм в клетку, а Миле чулки-паутинки.
Что он делал в Риге? Испытывал самолеты? Видно, у него были тогда иные задачи. И так можно предположить, что он сотрудничал с нашими органами безопасности. В этом случае следователю было все известно обо мне и Рудольфе.
— Рудольф Шмидт был моим другом,— ответил я.
— А почему о нем раньше не говорил?
— Мне показалось, что вас больше интересуют те, с которыми дружил в институте.
— Опять хитришь? И давно с ним знаком?
— Года два.
— Часто встречался с ним?
— Обычно раз в неделю.
— И что ты нашел общего с ним? Ты, наверно, лет на пять моложе его?
— Этот вопрос надо было бы ему задавать. Он искал знакомства со мной. Общего было то, что мы оба хотели говорить по-немецки. Только он знал его значительно хуже, чем я. Для него это была своеобразная практика. А мне тогда не с кем было говорить на родном языке.
— Ну, и о чем вы беседовали? — на лице следователя появилось ехидное выражение.
— О разном. О спорте, литературе, кино...
— И больше ни о чем?
— Почему? О женщинах.
— Это меня не интересует.
— О новостях в газетах.
— А может быть, еще о чем-нибудь ты говорил с ним?
— Не понимаю ваш вопрос,— ответил я и невольно подумал,— неужели он передал наш разговор в «Метрополе»?
— Хорошо. Если ты такой непонятливый, могу помочь. О чем ты говорил с ним в «Метрополе»?
Мне стало жарко. Надежды мои рухнули. Значит, он был осведомителем. А может быть он главное не сказал?
— Трудно сказать. Мы были там не один раз.
— А все-таки? — настаивал следователь.
— Мы говорили о богатстве немецкого и русского языков.
— И больше ни о чем? — следователь испытующе смотрел на меня, а глаза у него были колючие.
— Не припоминаю.
— Подскажу. Разговор касался персоны твоего друга. Выходит, Рудольф передал наш разговор, во время которого я его предупредил, что за ним слежка. Я, конечно, мог сделать вид, что ничего не понимаю, и даже отрицать подобный разговор. Но это было бы не в мою пользу. Поскольку Рудольф осведомитель, верить будут его словам. В этом случае я оказался бы лжецом. Я решил сказать правду.
— Тебе не было известно, что подобные беседы не разглашаются?
— Я знал об этом.
— Тогда почему ты рассказал?
— Я считал это долгом дружбы, тем более, что Шмидт порядочный человек.
— Интересная точка зрения.
Я боялся, что будет разговор о книге и значках, но следователь об этом не упоминал. Выходит, что Рудольф далеко не обо всем докладывал.
На этом закончился допрос. Следователь, кажется, был доволен. Он добился своего.
— Иди, подпиши! — сказал он,— вот здесь, внизу. Как подписывать протоколы допроса я уже знал хорошо. Главное, чтобы не оказались свободные строки. В этом случае следователь мог бы заполнять их вымышленными, компрометирующими «фактами», «чистосердечными» признаниями и т. п.
В камере все, конечно, интересовались, как прошел допрос, и что слышно на фронте.
— Холодновато было в КПЗ, но зато сытно,— ответил я.
— Чем кормили? — спросил Боос.
— Галушками, ну и, конечно, хлебом. Что касается положения на фронте, знаю лишь, что идут тяжелые бои около Сталинграда.
— Значит, немцы уже на Волге?
— Да.
— Выходит, плохие дела?
— Видимо.
Новости эти воспринимали по-разному. Кое-кто в душе надеялся, что немцы придут в Казань и освободят нас, другие были озадачены продвижением фашистских войск.
Книги — в карцере
Прошло несколько дней. Однажды, неожиданно, открылась кормушка, когда я стоял около двери вместе с татарином Хабибулиным. Не нас смотрело лицо дежурного.
— Идите сюда! — приказал он.
— А что? — спросил я.
— Дадим вам три книги для чтения. Только смотрите, чтобы страницы не вырывали.
— У нас табак давно кончился. Нам бумага ни к чему,— ответил Хабибулин и взял одну из книг. На обложке стояло: «Ремонт тракторов».
Мне повезло больше. В руках оказались поэмы Лонгфелло «Песнь о Гайавате» и «Страна Муравия» Твардовского.
— Как твоя фамилия? — обратился ко мне дежурный.
Я назвал себя.
С каким наслаждением я взялся за чтение. И не только потому, что поэмы были интересные. Наконец-то вновь увидел перед глазами печатные буквы. Я чувствовал себя как человек, который умирал в пустыне от жажды и неожиданно наткнулся на родник.
Позже читал даже «Ремонт тракторов» с удовольствием, хотя ничего не понимал в технике.
Дней через пять нам обменяли книги.
Дежурный внимательно перелистывал книги, которые мы вернули, и обнаружил, что в одной из них, «Ремонте тракторов», не хватало двух страниц.
— Кто вырвал страницы? — спросил он довольно спокойно.
— Не мы,— ответил я.— Видимо, это сделал кто-то до нас.
— Книга была целая,— буркнул дежурный и захлопнул кормушку. Мы, к сожалению, не проверяли книги. Никто ничего не заметил, т.к. были вырваны последние страницы, не имеющие отношения к тексту, где указывался тираж, типография и т. п. Правда, я подозревал Хабибулина, который, возможно, решил как-нибудь бумагу обменять на табак. Он был заядлый курильщик.
На это маленькое происшествие мы не обратили особого внимания и вскоре забыли о нем. Великое депо — нет страниц с указанием издательства, формата бумаги...
Дни текли похожие один на другой, и каких-либо изменений в нашей жизни не предвиделось. Все ждали с нетерпением весну и начало навигации. Авось, отправят в этап.
Я сидел в углу камеры и беседовал с Боссом. Только что пообедали и ждали сейчас кипяток.
Как всегда, самым нетерпеливым оказался молдаванин Чолак, который то и дело приставлял ухо к двери.
— Идут! — воскликнул он радостно.
Однако, он ошибся. Дверь хотя и открылась, но бочки с кипятком не оказалось.
Коридорный назвал мок» фамилию.
— Выходи с вещами! Быстро!
— Наверно, в этап, по спецнаряду,— сделал вывод Поклитаров,— он же врач.
— Завидую,— шепнул мне Боос.— Желаю тебе удачи.— Мы обнялись.
Действительно, куда меня еще могли вызвать, тем более с вещами! Допрос же окончен.
Вместе с дежурным я спустился по лестнице и очутился на тюремном дворе. Было очень холодно, и стоял легкий туман, который часто наблюдается, когда температура падает ниже тридцати градусов.
В середине двора дежурный неожиданно остановился и скомандовал.
— Стой!
Я остановился и положил вещевой мешок в снег. До ворот, ведущих на улицу, и проходной было не больше двадцати шагов, и было непонятно, к чему эта остановка.
— Открывай мешок и вытаскивай свои шмотки,— приказал дежурный. Кроме белья и теплых вещей там не было ничего. Он внимательно обследовал содержимое, а затем бросил в снег. Я хотел поднять, но последовала новая команда.
— Раздевайся!
Я снял кожанку и не знал, что делать дальше. От холода я дрожал, как осиновый лист, и чувствовал, как нос, щеки и уши онемели.
— Все снимай! — рявкнул дежурный.— Ты что оглох, или не знаешь русский язык? — В его глазах я читал лютую ненависть и злобу,
Я разделся догола и стоял на снегу, в чем мать родила. Отчетливо видел, как пальцы на ногах побелели и не только они. Никогда в своей жизни я не испытывал такого холода, никогда не дрожал так, как здесь, на этом дворе при сорокаградусном морозе. Кожа была похоже на гусиную и вместо мертвенно-бледного цвета стала синеватой... Лишь пальцы на ногах приобрели меловую окраску. Я их отморозил. Временами мне казалось, что меня жжет огонь, а затем вновь испытывал нестерпимый холод. Зубы выбивали дробь, и мне было трудно говорить...
Дежурный, не спеша и, кажется, с наслаждением выворачивал карманы брюк, прощупывал рубашку, трусы, майку, шапку, а затем бросил их в снег к остальным вещам.
Я начал плясать по снегу, пытался согреться, но без успеха. Весь этот обыск мне не был понятен. «Неужели так всегда делают перед этапом и почему на дворе?» — подумал я.
Когда дежурный закончил обыск, я хотел одеться, но он остановил меня. Он вытащил из кармана небольшой лист бумаги и стал читать. Из слов его мне стало понятно, что я, заключенный такой-то, за порчу казенного имущества, точнее порчу книги, приказом начальника тюрьмы должен отсидеть десять суток в карцере.
— Простите,— сказал я удивленно,— за ту книгу, в которой не хватало двух страниц, отвечал не я. Ее отдавали Хабибулину.
— Меня это не интересует,— равнодушно ответил дежурный.— Ты прокурил страницы, и должен за это отвечать.
— Я, во-первых, некурящий, а во-вторых, в нашей камере давно уже нет табака.
— Вечером во время проверки можешь доложить об этом корпусному. Одевайся!
Мы вернулись обратно в главный корпус, откуда пришли, только не поднимались по лестнице, а прошли по коридору первого этажа.
Выходит, что меня потащили на двор только ради издевательства. Обыск можно было спокойно произвести и в закрытом помещении.
Коридорный открыл дверь неизвестной мне камеры и рявкнул: «Иди!» Камера оказалась темной и очень сырой. Бетонный пол говорил о том, что это карцер.
В самом углу сидели двое заключенных. Один из них, с ястребиным носом и черными глазами, напоминал мне разбойника из сказок братьев Гримм. Другой, курносый и очень бледный, имел лицо простого русского деревенского парня.
— Здравствуйте,— сказал я.
— Добро пожаловать,— сострил «разбойник». Я стоял в нерешительности и не знал, как быть: садиться на холодный бетонный пол? После обыска на морозе это могло мне стоить жизни.
— О чем задумался? — спросил курносый.
— Холодно. Не знаю, как лучше устроиться? Он почесал голову.
— Есть отличная идея. Сделаем так: сними свою кожанку. Мы ее используем как подстилку, а моей телогрейкой укроемся.
Мы так и сделали, и, чтобы согреться, прижались друг к другу, как влюбленные. У «разбойника» было толстое полупальто, которое его, видимо, более или менее устраивало.
— За что попал сюда? — поинтересовался он. Я рассказал свою историю.
— Сволочи,— последовал ответ. «Разбойник» и курносый оказались уголовниками со стажем. Первый из них, курд по национальности, попал
в тюрьму за поножовщину, другой — за неудачный «скачок» (квартирную кражу).
— Тебя как зовут? — спросил курд.
— Генри.
— Ты что, немец?
— Да.
— Ну, тогда понятно, зачем попал сюда. А меня зовут Омар.
— А меня Гриша,— сказал курносый.
— Наверно, жрать хочешь? — Омар посмотрел на меня как-то очень жалостливо.
— Да, конечно.
— На, возьми.
Я не поверил своим глазам. Хлеб и настоящее домашнее сало, да еще в карцере. Это не что иное, как сказка.
С наслаждением и очень медленно я съел лакомство и не знал, как выразить свою благодарность.
Омар, наверно, тоже был голодный — в карцере сытых не бывает. Тем более меня удивила его доброта и щедрость. Возможно, так принято у уголовников, делиться тем, что есть. Конечно, только со своими. В данном случае это было уже исключение. Очутившись, однако, в карцере я стал как бы временно «своим». Здесь все равны.
Пока я ел, Омар внимательно наблюдал за мной, а потом сказал с сочувствием в голосе:
— Жаль мне тебя, парень. Такая уж наша жизнь. Надо терпеть.
— Да, немного тебе осталось,— словно стараясь утешить меня, вмешался Гриша,— скоро отмучишься.
Когда я услышал эти слова, мне стало страшно. До сих пор, даже в самые тяжелые минуты, никогда по-настоящему не верил в близкую смерть. Правда, я не исключал возможности насильственной смерти, т. к. статьи, по которым меня обвиняли, допускали высшую меру наказания. Но о том, чтобы умереть в камере от болезни или голода,— этого не могло, и не должно было быть. В это я не верил.
Люди умирали кругом, рядом со мной. И все на почве истощения, голода или, выражаясь научным языком, алиментарной дистрофии. Но мне всегда казалось, что это не имеет отношения ко мне.
Да, я чувствовал страшную слабость, едва держался на ногах, а когда вылезал из-под нар и вставал, голова кружилась, и перед глазами становилось темно. В остальное время чувствовал себя почти нормально, т. е. когда лежал или сидел.
Главное, что меня успокаивало — я пока еще не отекал, как многие другие. Может быть потому, что мало употреблял воды и щадил сердце.
Слова, сказанные Гришей, человеком посторонним, дали мне понять, что все гораздо страшнее... И тогда я вспомнил, что многие дистрофики даже перед агонией не чувствовали и не верили в приближение смерти.
А что будет со мной после карцера? Триста граммов хлеба в день, да кипяток? Выдержу ли я это испытание?
Есть только один выход — бороться, бороться за жизнь всеми способами. В первую очередь решил вызвать корпусного. Я подошел к двери и начал стучать.
— В чем дело? — спросил коридорный.
— Мне нужен ответственный по корпусу. Я попал сюда по ошибке.
— Ничего не знаю. Когда будет смена дежурств, можешь жаловаться. Часа через два появился дежурный.
— Гражданин начальник, — обратился я к нему, — меня посадили здесь по недоразумению.
— Как это понять? — дежурный сделал удивленное лицо.
— Нам выделили три книги на камеру. Две получил я, третью заключенный Хабибулин. Когда сдали книги, у него не хватило двух страниц. Я не курящий, да и за эту книгу не отвечал. А посадили меня.
— Напиши заявление на имя начальника тюрьмы.
— Дайте тогда, пожалуйста, бумагу и карандаш,— сказал я обрадо-ванно.
— Нету,— буркнул дежурный и захлопнул двери. Все мои надежды рухнули. В этой тюрьме нечего было ждать справедливости и милосердия. Неужели дежурный предполагал, что у меня есть бумага и карандаш? За один только карандаш сажали в карцер.
— Не огорчайся,— успокоил меня Омар,— сволочи и есть сволочи. Лучше расскажи что-нибудь. Может быть, знаешь интересный роман?
У блатных большой популярностью пользуются те заключенные, которые умеют пересказывать прочитанные книги, особенно приключенческие и любовные.
В отсутствие книг, чтобы бороться со скукой да убивать время, многие заключенные пересказывали друг другу прочитанные романы, повести и рассказы. Меня тоже часто просили рассказать какой-нибудь «роман».
На этот раз я выбрал «Амок» Стефана Цвейга, очень драматичную повесть, которая всегда пользовалась большим успехом у слушателей. Главное — надо было говорить подольше и со всеми подробностями. Я старался как можно лучше описать природу Индии, где проходило действие, нравы и обычаи народов, и, конечно, обстоятельно пикантные детали.
Омар и Гриша остались довольны.
— Молодец,— похвалил меня Омар.— Завтра нам расскажет что-нибудь Гриша. Согласен? — обратился он к нему.
— С удовольствием. Могу рассказать «Отверженные». Читали?
— Нет.
— Тем лучше.
В карцере было холодно и сыро, но меня и Гришу спасало мое кожаное полупальто.
Когда я жил еще в Москве, в Петровском переулке, напротив филиала МХАТа, соседями по квартире оказалась рабочая семья из США. Глава семейства — токарь высокой квалификации — работал в нашей стране по контракту. Я дружил с его сыном, которому принадлежала
эта куртка. В середине тридцатых годов Орловы вернулись на родину и перед отъездом продали мне эту тужурку. Она была сшита из черной кожи и имела воротник и толстую подкладку из цигейки.
Когда мы спали или сидели на ней, то почти не чувствовали ледяной бетонный пол.
В первую ночь, проведенную в карцере, я, как всегда несколько раз просыпался, т. к. ноги и руки немели. Приходилось поворачиваться на другой бок. И вот тогда я обратил внимание на странную возню в коридоре. Слышались торопливые шаги нескольких человек, а затем со скрежетом открывалась одна из соседних камер. Секундами позже раздавался глухой звук, словно кто-то бросил мешок с картошкой на пол.
— Что это такое? — спросил я удивленно.
— Покойников тащат в мертвецкую,— объяснил Омар.— Мы уже привыкли к этому. За ночь их набирается иногда с добрый десяток.
Утром приносили «кровную пайку», но как положено в карцере, три-стаграммовую. Я разделил жалкий кусок хлеба на две части, чтобы одну из них оставить на вечер.
Гриша и Омар сразу расправились с пайкой.
— Нечего с ней церемониться,— сказал Омар.
Сразу после завтрака, который по существу являлся и обедом и ужином, Гриша начал рассказывать.
Он лег рядом со мной на тужурке, прижался плотно ко мне, чтобы согреться, и, укрывшись телогрейкой, обстоятельно стал пересказывать роман Виктора Гюго «Отверженные».
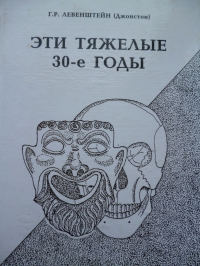

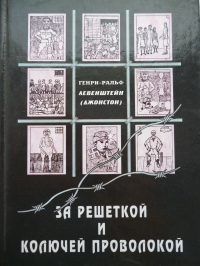
Книги Г-Р. Левенштейна
Рассказывал он два дня. Время прошло для меня незаметно, и я даже меньше, чем обычно, страдал от голода. Мое внимание было целиком приковано к судьбе Жана Вальжана, пострадавшего без особой вины, так же как и мы. Может быть, поэтому меня взволновало так сильно это повествование. И мы тоже были отверженные. Еще очень долго я находился под впечатлением романа, герои которого стали для меня словно родные.
Когда я вышел из карцера, то лишь с великим трудом поднимался по лестнице. Голова кружилась, ноги меня едва держали. Я схватился за перила и с помощью рук, очень медленно, преодолел одну ступеньку за другой.
В камере меня встретили с удивлением и сочувствием.
— Да, здесь правды не найти,— рассуждал Боос,— наше несчастье, что мы немцы.
А потом он говорил мне шепотом: «Хабибулин — подлец. Это он вырвал страницы. Он обменял их на махорку. Он наврал, что ни у кого уже нет табака. Табак был, а вот бумаги ни у кого уже не оказалось».
Однажды к нам пришел дежурный и объявил, что желающие получить посылки, могут написать своим родным коротко, что им нужно из продуктов и одежды. Он выдал на камеру огрызок карандаша и несколько листков из ученической тетради.
Посылка — Новая камера — Коридорная — Рабочая камера — Работаю художником — Этап
Я написал матери в Москву, чтобы она выслала сухари и махорку. Вероятно, она должна была удивиться, т, к. я никогда не курил.
Махорка нужна была мне на обмен, чтобы получить лишнюю пайку хлеба. И вот в один из зимних дней мне вручили посылку. В ней были белые сухари, махорка и небольшие твердые шарики овечьего сыра.
Обратный адрес меня удивил: поселок Самарканд Карагандинской области. Значит, и мать выслали в Казахстан.
Несколько сухарей отдал Боосу и еще трем человекам, остальные получили по щепотке махорки.
Я чувствовал себя как на седьмом небе. Белые сухари мне казались слаще шоколада, а сырки привели в телячий восторг.
Благодаря этой посылке (а несколько позже пришла еще одна) я стал себя чувствовать несколько лучше. Страшная слабость, которую я испытывал после карцера, почти прошла... Вполне возможно, что посылки эти спасли мне тогда жизнь. Во всяком случае, они на неопределенное время отодвинули смертельную опасность умереть от истощения.
В камере мы не следили за календарем и часто не знали, какой день. Не до этого было. Кончился 1942 год, очень холодный и страшный. Многие из нас, отверженных, остались навсегда в чужой чистопольской земле.
Вскоре после нового года нашу камеру переформировали, и меня перевели на первый этаж, к сожалению, без моего друга Бооса.
Камера была небольшая, и нас собралось не больше двадцати пяти человек. Я вновь оказался под нарами. Тюрьму заметно разгрузили, и даже начали топить печки.
Однажды, когда я проснулся утром, я ощутил необычную тяжесть в голове. Она казалась мне свинцовой и болела. Я попытался встать, но упал. Ноги меня не держали и казались ватными. В воздухе пахло чем-то.
Не требовалось большого ума, чтобы поставить диагноз — отравление угарным газом. Видимо, ради экономии тепла, коридорный или обслуга раньше времени закрыли задвижку.
Проснулись и остальные заключенные. У всех оказались симптомы отравления. Начали стучать в дверь.
— В чем дело? — спросил коридорный.
— Вы нас отравили,— закричали мы.
— Как отравили! — удивился вертухай.
— Раньше времени прикрыли печь.
Коридорный открыл дверь и понюхал.
— Правда, пахнет угаром.— Он широко открыл дверь.— Ладно, оставлю ее открытой. Только предупреждаю: если кто-нибудь выйдет в коридор — сразу закрою.
Постепенно воздух стал чище, но головная боль и тяжесть прошли лишь дня через два.
Коридорные были здесь другие, и среди них я впервые увидел девушек, видимо, мобилизованных. Меня они мало интересовали. Я уже свыкся с тем, что на нас смотрели, как на чумных или прокаженных, брезгливо и с ненавистью. Мы были в их глазах враги и изменники.
В тот для меня памятный день я был дежурным. В мою обязанность входило принимать хлеб и баланду, а также мыть пол. В обед давали болтушку из ржаной муки с галушками, а когда мы справились с ней, вывели на прогулку. Я остался один в камере, чтобы сделать уборку.
Неожиданно открылась кормушка, и я увидел черноглазую девушку с пухлыми губами и челкой. Я уже обратил на нее внимание, когда принесли бочку с кипятком. Она была небольшого роста, миловидная, с семитскими чертами лица, и, как выражаются ценители женской красоты — аппетитная. Но я уже не был мужчиной и смотрел на ее весьма заметные округлости с полным равнодушием.
— У вас миска есть? — спросила она. — Дайте!
В углу камеры стояли еще штабелями деревянные миски, емкостью до полутора литров, и я выбрал самую большую. Авось, как дежурному, мне дадут добавку, — мелькнула мысль.
Через минуту вновь открылась «кормушка».
— Возьмите! — сказала девушка. В руках она держала плошку, до края наполненную баландой, но я справился с ней мгновенно.
Вскоре я вновь увидел лицо девушки, миндалевидные темные глаза смотрели на меня с любопытством и, как мне показалось, с некоторым сочувствием.
Что она нашла во мне? До моего ареста я всегда пользовался большим успехом у девушек, особенно у евреек. Возможно, их притягивал мой чисто арийский вид — светлая, очень нежная кожа, серые глаза и правильные черты лица. Но сейчас я был ходячим скелетом, к тому же с густой русой бородой, и напоминал больше всего Христа-спасителя с картины русского художника Ге.
— Вы еще можете кушать? — спросила она, и на ее лице появилась улыбка.
— Да.
Снова я получил полную миску баланды и опять-таки одолел ее в считанные секунды. Мой организм, словно губка, впитывал в себя такое количество пищи, о котором я раньше и думать не смел.
Девушка, вероятно, следила за мной через глазок, и когда я выхлебал и эту порцию, сразу открыла кормушку. На лице ее я читал удивление.
— Скажите честно. Вы наелись или можете еще кушать?
— Могу еще,— ответил я несколько сконфуженно. Она налила мне еще полную миску баланды.
— Только быстрее,— торопила она,— сейчас придут раздатчицы.
— Спасибо вам. Я вам очень и очень благодарен,— успел я только сказать. И третью миску я уплел с прежней скоростью. Мой живот постепенно наполнялся, как пустой баллон, и стал выпирать. Стало трудно дышать, но настоящего чувства сытости я не испытал.
Об этом эпизоде я никому не рассказывал. Зачем расстраивать голодных.
В тюрьме, видимо, не хватало рабочей силы, и дежурные неоднократно обходили камеры в поисках разных специалистов.
Однажды дежурный вновь пожаловал к нам, на этот раз со списком в руках.
— Нет ли среди вас столяров, краснодеревщиков, слесарей, агрономов, бондарей, художников...?
При слове «художников» я вскочил и не без основания. Дело было вот в чем: до поступления в 1937 году в 1 Московский медицинский институт у меня были совершенно иные планы. Я колебался и не знал, что выбирать: Институт физкультуры им. Сталина или архитектурный институт?
Еще в школе я любил рисовать и лепить, и уделял этим увлечениям много времени. Целый год посещал подготовительные курсы при архитектурном институте и дважды в неделю, вечерами, рисовал. Сначала разные детали, шары, кубики, орнаменты, фрагменты скульптур, а позже и натурщиков.
Для того, чтобы поступить в институт, как нам объяснили, надо было получить по рисованию, основному предмету, хотя бы «тройку».
Весной, перед окончанием курсов, был экзамен, аналогичный тому, который должны были выдержать поступающие в институт. Я получил заветную «тройку». Это укрепило мою уверенность в том, что шансы поступить в институт у меня есть.
За два или три дня до подачи заявления ко мне пришла Аня, жена моего дяди Степана, которая работала врачом, и отговорила меня поступать в архитектурный институт.
— Пойми, — говорила она, — для того, чтобы стать архитектором, надо иметь настоящий талант. Можно быть посредственным учителем, врачом, слесарем, но не архитектором. Я знаю, что ты умеешь рисовать, но у тебя только способности, но не талант.
Она начала агитировать меня стать врачом. Я, откровенно говоря, никогда не думал об этой специальности, но ее слова меня убедили. Я стал смотреть на себя как бы со стороны, сравнил свое умение рисовать с умением других и пришел к неутешительному выводу... короче говоря, я подал заявление в медицинский институт.
Сейчас я вспомнил о том, что умею немного рисовать, и обратился к дежурному:
— Гражданин начальник, я окончил подготовительные курсы при Архитектурном институте и рисовал, но... (я хотел сказать, что не художник, а врач по специальности) он прервал меня: «Фамилия?»
Я назвал себя. Дежурный, не сказав больше ни слова, хлопнул дверью и ушел.
«Для чего им художник, здесь, в тюрьме?» — подумал я. Конечно,
не хорошо, что выскочил вперед, но утопающий, как известно, хватается и за соломинку. Может быть, это единственный шанс не умереть от истощения.
Дня через три коридорный вызвал меня с вещами и перевел в рабочую камеру. Началась новая страница в моей тюремной жизни.
Камера оказалась небольшой, с нарами, которые уже были заняты заключенными, своей внешностью несколько отличающимися от нашего брата «политического». Их лица не были изможденными и бледными, даже сохранили нормальный цвет.
Кто-то из них курил крепкую махорку, кто-то жевал сухари и пил кипяток. Почти все они держали около себя «сидора», видимо, с одеждой и хлебом. Это были «бытовики» — рабочий народ. Об этом говорили их лица, несколько грубоватые, словно вырубленные из дерева.
Я насчитал одиннадцать человек. Вероятно, еще не все вернулись с работы.
— Что-то ты больно тощий, одни мослы да кожа. Краше в гроб кладут,— сказал пожилой мужчина с лысиной и узловатыми руками. — Давно сидишь?
— Больше года.
— Наверно по 58?
— Да.
— Тогда все понятно. Слышали, что пришло несколько эшелонов с разными шпионами, старостами и полицейскими... Служил у немцев?
— Нет. Меня забрали в Москве.
— За агитацию?
— Я не агитировал.
— А за что тогда сажали? — недоуменно спросил лысоватый.
— Это я сам бы хотел узнать.
— Странно, очень странно,— он качал недоверчиво головой. Я устроился по старой привычке под нарами. Моим соседом оказался паренек лет двадцати с блуждающими глазами. Его звали Леша, и попал он в тюрьму за кражу. Вытащил на базаре у колхозницы кошелек.
В обед принесли суп «рататуй». Лысый съел три ложки, а потом поставил миску в сторону.
— Гадость,— ворчал он.— На, возьми, если хочешь,— обратился он ко мне.
— Большое спасибо,— ответил я и с наслаждением доел порцию. На третий день пребывания в рабочей камере меня вызвали к начальнику тюрьмы Мухутдинову.
Он сидел за письменном столом и держал в руках какое-то «личное дело». Видимо, мое.
— Садитесь,— обратился он ко мне. Бесстрастные глаза посмотрели на меня изучающе. Это был тот самый начальник тюрьмы, который вместе с врачом придумал оригинальный способ отучить заключенных употреблять кипяток сверх нормы. У него было типичное татарское лицо, не лишенное интеллигентности. Я удивился — впервые меня назвали на «вы».
— Я ваше дело посмотрел. Значит, рисовать умеете?
— Да. Я закончил специальные подготовительные курсы при архитектурном институте. Хотел стать архитектором, но затем передумал.
— Вот почему я вас вызвал. Нужно сделать художественный циферблат.
— Циферблат? — переспросил я удивленно.
— Да, циферблат. Я хочу поставить большие часы на прогулочном дворе, и для них требуется циферблат. Понятно?
— Да.
— Вам дадут место в мастерской, где можете спокойно работать. Вопросы ко мне будут?
— А как насчет материала, красок, бумаги, карандашей и всего необходимого?
— С этим обратитесь к дежурному. А сейчас возьмите,— он подал мне какую-то бумагу.
— Что это такое? — удивился я.
— Письмо от вашей жены.
Я не верил своим ушам и дрожащими от волнения руками вынул письмо из конверта.
Я узнал, что Мила находится также в поселке Самарканд около Караганды и работает по специальности. Моя мать недавно переехала к ней. Значит, все более или менее нормально.
— Большое спасибо, — сказал я, прочитав письмо» — я вам очень благодарен.
— Можете идти, а письмо оставьте.
Оказывается, у начальника тюрьмы сохранились какие-то человеческие качества. Во всяком случае, он на меня не произвел впечатления изверга или садиста.
На следующее утро, после раздачи хлеба, пришел дежурный и по списку вызвал людей на работу, в том числе и меня.
Кого-то направили на очистку территории, кого-то в баню или кухню, а меня в мастерскую.
Она оказалась большим просторным помещением с верстаками и прочим оборудованием, где уже трудились столяры и слесари. Мне выделили место на конце длинного стола рядом с хмурым обросшим мужиком в потрепанной одежде, занятым странным делом. Рядом с ним лежал большой моток колючей проволоки, которую он не спеша разбирал, удаляя колючки и выправляя их. Он занимался изготовлением гвоздей — весьма дефицитного товара.
Народ здесь был простой — в основном «бытовики» и с небольшими сроками. Почти все они оказались местными жителями и получали регулярно передачи. От голода не страдали. С хлебом и у них было туговато, но картошки хватало.
Ко мне подошел мужчина средних лет с приятным интеллигентным лицом, который своим внешним видом заметно отличался от остальных обитателей мастерской.
— Константинов, — представился он, — из Москвы.
Я назвал себя.
— А я о вас слышал. Вы, кажется, врач по специальности?
— Да.
— Вы случайно не читали в камере лекцию о калорийности нашего питания.
— Да. Но откуда вам это известно?
— Об этом мне говорил один заключенный, который до этого находился с вами в одной камере. Эта лекция чуть не стоила вам головы.
— Как это понять? — спросил я удивленно.
— Хотели на вас завести дело.
— Дело? За что?
— За эту лекцию.
— Ничего не понимаю. При чем здесь эта лекция?
— Очень просто. Вы хотели доказать, что все обречены, и единственный выход из положения — бунт.
— Бунт?
— Да, именно бунт, с тем, чтобы обезоружить охрану и совершить побег.
— Подождите, это же абсурд. Я об этом ничего не говорил. Рассказывал только о том, сколько калорий мы получаем, и сколько недополучаем.
— Возможно, но этим вы наталкивали людей на мысль, что есть лишь одна альтернатива: или умереть или совершить побег.
— Об этом я не думал. Я только констатировал факты.
— Констатировать факты иногда очень опасно. Вы это должны были знать, тем более имея статью пятьдесят восьмую.
— Откуда вам известно, что на меня хотели завести дело?
— От этого зека. Его и еще нескольких человек вызывали по этому делу на допрос.
— И чем все это кончилось?
— К вашему счастью, ничем. Оставшихся в живых из вашей камеры отправили в конце апреля 1942 года в этап. А те, которые были задержаны по разным причинам и допрошены, «ничего не помнили», или скончались в больничной камере. Короче говоря — не осталось свидетелей. Иначе вам была бы «вышка».
— Выходит, мне повезло.
— Да, и очень крупно.
— А вы когда прибыли сюда? — поинтересовался я.
— В конце сорок первого.
— Как и я. Наверно тоже по пятьдесят восьмой?
— Да.
Константинов, инженер по специальности, занимал пост «главного» в мастерской. Он консультировал, оказывал помощь и был связующим звеном между рабочими и начальством тюрьмы.
О том, что я прибыл сюда, чтобы создать художественный циферблат, ему было известно.
— А как с материалом? — задал я вопрос.— Нужны хотя бы для начала карандаш и бумага.
— Это не так просто. Кусочек карандаша и вам найду и обрывки обоев тоже, но больше ничего.
— Начальник тюрьмы говорил мне, чтобы я обратился к дежурному.
— Можете, но ручаюсь, что он ничего не даст. Стиль работы здесь такой: сделай, да еще быстрее, а чем — это твоя забота. Главное — надо делать вид, что работаешь. Пока набросайте хотя бы эскизик, а там будет виднее.
Он оказался прав. На мой вопрос, как получить краски, бумагу и т. п., дежурный неопределенно ответил: «Будет — дадим».
В тот день я так ничего и не сделал, единственно — изготовил эрзац-тушь — размешал сажу с водой.
На следующее утро дежурный потребовал художника.
— Слушаю вас, гражданин начальник,— сказал я.
— Сейчас выносят во двор параши. Будете обновлять номера на них. Кисть и краску получите у Константинова.
Константинов дал мне истрепанную, почти без волос кисть, видимо, из конских волос, а также подозрительную молочного цвета густую жидкость. Вероятно, смесь хлорки, мела и еще чего-то.
На дворе уже стояло около двадцати параш. Работа оказалась пустяковой, но далеко не художественной. Было, однако, очень холодно, и руки быстро онемели.
Вторую половину дня я провел в мастерской, где рисовал. Ко мне подошли двое рабочих. Они заинтересовались моим умением рисовать.
— А патрет можете сделать? — спросил один из них, столяр по специальности.
— Могу.
— А мой?
— Тоже.
— Тогда нарисуйте меня. Вот получу передачу и расплачусь.
Я задумался: на чем рисовать? Бумаги не было.
— А у вас найдется чистый носовой платок? — спросил я.
— Конечно.
У столяра было подходящее лицо для рисования: угловатое, морщинистое, с широким носом, толстыми губами и оттопыренными ушами.
Портрет сделал довольно быстро и, кажется, удачно. Заказчик остался довольным и, действительно, вскоре я получил от него горбушку хлеба и несколько картофелин.
Рисовать приходилось очень осторожно. За подобные художества полагался карцер, но я рисковал. Возможность заработать лишний кусок хлеба преодолевала страх, и я потихоньку превратился в подпольного портретиста.
Работа над циферблатом шла медленно, и пока удалось сделать лишь небольшой эскиз. По плану я хотел нарисовать циферблат на бумаге в натуральную величину, а потом уже на фанере или жести.
Но бумаги не дали. Хорошо еще, что пока никто особенно не интересовался циферблатом. Вместо этого меня заставили рисовать разные номера, надписи, таблички, а то и малярить.
Время шло. В мастерской было веселее, чем в камере, и, главное, можно было поговорить по душам и узнать новости.
До этого я совершенно не знал, что делается на фронте, и где он проходит. Последние сведения трехмесячной давности говорили о том, что на Волге, около Сталинграда, шли ожесточенные сражения.
Константинов знал подробности, и даже кое-что записал.
— Немцы потерпели сокрушительное поражение при Сталинграде,— сказал он.— Слушайте, что газеты пишут: бои начались 17 июля 1942 г. и закончились 2 февраля 1943 г. Тринадцать вражеских дивизий, имевших 3 тысячи орудий и минометов, 500 танков, поддерживались 1200 боевыми самолетами 4-го воздушного флота. На отдельных этапах в них с обеих сторон участвовали свыше 2 миллионов человек, более 2000 танков, столько же самолетов, 26 тысяч орудий и минометов... Общие потери врага составили полтора миллиона человек, свыше 3000 танков, 4400 самолетов, 12 тысяч орудий... Такого, пожалуй, мир не знал. Вероятно, вы заметили, что физиономии надзирателей выражают сейчас иные чувства. Можно выразиться так: они торжествуют, особенно тогда, когда имеют дела с нами, политическими (по 58). Словно мы желаем победы немцам. Но я вам скажу откровенно, мало найдется таких, даже среди тех, осужденных по 58 статье, которые мечтали бы о поражении своей родины. По-моему, настоящими политическими здесь и не пахнет. Другое дело, что тот или иной выразил критические замечания. Но какой может быть прогресс без критики?
— Да, ошибки можно поправить лишь на основе критики,— добавил я. Константинов был большой любитель поэзии и нередко декламировал в мастерской стихи Пушкина, Лермонтова и Некрасова. Иногда, чтобы поднять настроение зеков и повеселить их, читал нам поэму «Лука Муди-щев», написанную Иваном Семеновичем Барковым, русским поэтом XVIII века, известным своими фривольными стихами, которые расходились в списках. Тогда в мастерской звучал гомерический хохот, некоторые зеки смеялись до слез.
Меня по-прежнему мучил голод. Правда, иногда зарабатывал себе лишний кусок хлеба или несколько вареных картофелин, но этого было явно недостаточно, чтобы стать сытым.
Рабочие в моей камере то и дело получали передачи, но делились только табаком и то лишь на одну «козью ножку». Я не курил и ничего не имел от этого. Были и такие, которые и не думали давать, но сами просили. Среди них отличался татарин Галиулин, жадный мужичок с лицом хорька. Он никогда не расставался со своим «сидором», обнимал его всегда одной рукой, а когда спал, использовал в качестве подушки.
Если у него просили махорку, он всегда отвечал, что табак кончился, а сам всегда курил, как только покидал камеру.
Однажды ночью меня разбудил сосед — карманник Леша.
— Возьми! — шепнул он таинственно и передал мне несколько блинов.— Только тихо!
Я не спросил, откуда это лакомство, и начал есть с неописуемым наслаждением. Минутами спустя я получил еще кучу твердых сухарей. Сухари были мечтой всех голодных заключенных. Они были пределом мечтаний. Что может быть лучше сухарей с кипятком? А без кипятка? Конечно, тоже очень вкусно, только требуется больше времени и хорошие зубы. Зубы у меня были плохие и еще одно: я не без основания полагал, что Леша стащил у кого-нибудь эти яства, и поэтому громко грызть было недопустимо. Соседи могли услышать и сразу понять, кто виновник пропажи.
Всю ночь я занимался сухарями, осторожно отмачивал их слюной и лишь к утру справился с ними. После этого огнем горели ротовая полость и особенно язык и ныли скулы.
Утром, как всегда, вылезали из-под нар на утренний туалет с посещением параши, а затем сели на пол спиной к стене. Рядом с Лешей устроился счетовод Федоров, маленький, тоненький человечек с пугливым выражением лица, который рядом с нами лежал под нарами.
Он был чем-то встревожен, руки дрожали, глаза беспокойно смотрели то в одну, то в другую сторону. Вдруг он вытащил из кармана несколько сухарей и положил их незаметно подальше от себя на порог.
Мне все стало понятно. Видимо, Леша угостил и его сухарями, а Федоров просто не успел их съесть.
Пока в камере царили тишина и спокойствие, и никто еще не отреагировал на пропажу.
В это время проснулся Галиулин и вдруг громким голосом завопил:
— Обокрали, сволочи!
Он обшарил глазами камеру, ища виновника, и заметил сразу сухари у порога.
— Кто их положил сюда? Кто их украл? Где остальное? — закричал он.
— А что там еще было? — заинтересовался кто-то без сочувствия в голосе. Все злорадствовали и думали в душе: так ему и надо, жадюге.
— Только вчера получил передачу, — плаксивым голосом жаловался Галиулин.— Там были сухари, блины, килограмм вареного мяса, банка с медом и сливочное масло. Ничего не осталось.
«Странно,— подумал я,— неужели Леша одолел все это один? Вероятно, поэтому он поделился с нами сухарями и блинами... Иначе он вряд ли стал бы таким щедрым».
Я взглянул на него. Он сидел напряженно с раздутым животом, дышал тяжело и постоянно икал.
Видимо, и Галиулин обратил внимание на странный вид Леши, да и вообще из всех обитателей камеры он был единственным профессиональным вором. Вполне естественно, что на него сразу упало подозрение.
— Это ты, гад, стащил у меня передачу.— Галиулин начал стучать в дверь.
— А чем докажешь? — невозмутимо ответил Леша.
Лязгнул замок, и открылась дверь.
— В чем дело! Почему стучите? — спросил вертухай.
— Меня обокрали. Стащили передачу с сухарями, мясом, медом и махоркой. Делайте, пожалуйста, обыск.
— Врет он,— слышались голоса.
— Как это я вру? — удивился Галиулин.
— Очень просто. Вечером просили у тебя махорки взаймы, а ты ответил, что махорки нет и что давно не получал передачу.
— Верно, так он сказал,— подтвердили остальные.
— Врут они, гражданин начальник,— Галиулин чуть не заревел от обиды.
— Ну, вас к черту,— выругался надзиратель.— Сами разбирайтесь,— и захлопнул дверь.
— В следующий раз будешь умнее,— сказал ему пожилой столяр.— Жадность к хорошему не приведет.
Дни текли один за другим, а я все еще путался с циферблатом. Наконец мне принесли большой лист фанеры, который должен был стать настоящим циферблатом. Пока мог только рисовать карандашом — масляных красок еще не достали.
Стало теплее, появилось солнце и первые проталины. При тюрьме имелось небольшое подсобное хозяйство, где, в частности, сажали картошку. Здесь и встретил агронома Зайцева, с которым вместе прибыл в Чистополь. Он занимался огородом и, благодаря ему, в нашей баланде то и дело попадалась картошка и плавали листья капусты.
Он внешне изменился, лицо загорело и стало круглым. Однажды, когда я ходил по огороду и рисовал общий план его, начался дождь. Зайцев побежал в сторону тюрьмы, и я попытался последовать его примеру, но ноги не сгибались, и я падал. Оказывается, я мог передвигаться лишь прямыми ногами. Стоило только согнуть ноги в коленном суставе, как сразу оказывался на земле. Мышцы бедра атрофировались и не могли держать меня.
На следующий день, когда я как обычно отправился в мастерскую, Константинов, увидев меня, воскликнул:
— А вы, оказывается, за вчерашний день загорели. И не только лицо но и руки.
Я удивился. До этого я плохо поддавался загару и не помню, чтобы тыльные поверхности кистей принимали такой коричневатый оттенок.
Только позже я вспомнил, что это признаки пеллагры — авитаминоза, который возникает при отсутствии или малом содержании в питании витамина PP. Темные руки и «загар» лица носят название: «перчатки» и «бабочка» Казали.
Хотя я и питался несколько лучше в рабочей камере, но в весе не прибавил, и слабость по-прежнему была большая. Начальник тюрьмы меня больше не вызывал и циферблатом, видимо, никто особенно не интересовался. Иногда, правда, приходил дежурный, смотрел на мой эскиз и молча шел дальше.
В апреле меня неожиданно вызвали с вещами и переселили в этапную камеру. В ней было, по крайней мере, человек сто пятьдесят, в основном остатки воронежского этапа — бывшие полицаи, старосты и прочие лица, оказавшиеся в оккупации. Большинство из этого этапа не выдержали условий чистопольской тюрьмы и умерли от истощения.
Нары были все заняты, и я расположился на полу, положив рюкзак под голову. Утром, когда проснулся, заметил, что у меня вытащили из кармашков кружку, маленькую деревянную миску и ложку. Среди этап-ников оказались и воришки, которые занялись своим ремеслом. Я возмущался громким голосом, но это никого не трогало. Великое дело — пропали миска и кружка... Не то бывает в этапной камере.
Через два дня перед нами открылись ворота тюрьмы. Длинная колонна оборванных, бледных и истощенных людей с мешками в руках, в сопровождении конвоя двигалась в сторону пристани. На этот раз нас ожидала не баржа и трюм, а настоящий пароход. Нас разместили в большом пустом помещении.
Всех волновал вопрос, куда мы едем? На восток или на запад? В какую колонию или лагерь попадем? Где будем работать? А вдруг на лесоповале?
— Хорошо в лагере специалистам,— рассуждал кто-то,— особенно поварам, пекарям и врачам.
Делать было нечего, и решили устроить опрос: у кого какая специальность. Каждый назвал свою профессию и сказал, кем и где работал. Лишь я, единственный, оказался врачом.
Все сразу повернули головы в мою сторону, и сотни испытующих глаз изучали меня внимательно. Видимо, старались запомнить на всякий случай. Врачи, говорили мне, главная фигура в лагере, кто может сохранить жизнь и здоровье любого заключенного.
Минутами спустя ко мне подошел молодой парень с нагловатой физиономией и шрамом на правой щеке. По внешнему виду типичный ур-каган: брюки навыпуск, сапожки гармошкой, кисет с махоркой в кармане.
— На, возьми,— сказал он и вернул мне миску, ложку и кружку.— Мой кореш забрал их у тебя. Не знал, с кем имел дело. Ошибка вышла.
Ко мне стали подходить разные люди, чтобы задать вопросы и главное, установить со мной знакомство. Я оказался в центре внимания.
Вскоре мы поняли, что едем на запад, видимо, в Казань. Кончился еще один период в моей жизни — чистопольская эпопея.
В тюрьме, вероятно, поняли, что из меня не вышел художник, а может быть, отказались от идеи создания художественного циферблата,— вот меня и направили в этап.
Нас, действительно, этапировали в Казань, куда и прибыли сравнительно быстро, на вторые сутки. От пристани шли через весь город, и зрелище это было, вероятно, жалкое. Я двигался с трудом и едва волочил ноги от слабости. Хорошо, что колонна двигалась черепашьим шагом и то и дело останавливалась.
Остальные зеки были не сильнее меня, и у многих я отмечал большие отеки на ногах.
Люди стояли на тротуарах и провожали нас взглядами, одни с сочувствием, другие равнодушно, а то и с ненавистью.
Часа через два добрались до цели — большой колонии под названием ОЛП № 1 (отдельн. лагерный пункт) или Казлаг. Остановились перед большим деревянным забором с колючей проволокой и вышками, на которых стояла вооруженная охрана.
С полчаса топтались около вахты, а затем открылись ворота, и нас впустили в зону.
В Казлаге
На «общих» — Работаю врачом — Зиганшина — Амбулаторный прием — Больные и симулянты — Медперсонал — Ванденко
В несколько рядов стояли друг за другом большие длинные серые, одноэтажные деревянные бараки. Как я узнал несколько позже, одни из них были жилые, в других располагались мастерские, кухня, столовая, пекарня. Несколько в стороне находились бараки стационара.
Сначала, ненадолго, нас поместили в пустой барак. Так называемый карантинный.
— Пойдете в баню и на санобработку,— предупредил нас нарядчик,— пока выходить из барака запрещается.
Баня мало отличалась от тюремной. Те же скользкие скамейки, те же жестяные шайки и тот же малюсенький кусочек жидкого мыла. И здесь трудились парикмахеры-виртуозы, которые буквально за минуту острой бритвой освободили нас от волос на голове и тех, которые обычно не стригут.
Пока мы мылись, вещи наши «прожарили». После бани раздали хлеб, а затем организованно направили в столовую.
Впервые после долгого времени я сидел как нормальный человек за столом. До сих пор ел на полу камеры или в лучшем случае на нарах. С нетерпением ждали еду. Какая она будет? Этот вопрос волновал всех.
Вскоре принесли жидкий гороховый суп и выдали жестяную миску и алюминиевую ложку. На второе каждый получил ложку могара. Могар — итальянское просо. Согласно энциклопедии — хороший корм (зерно), в размолотом виде поедается всеми видами скота, в не размолотом — птицей. Могар был облит растительным маслом с сильным привкусом керосина.
От обеда мы не пришли в восторг Он отличался от тюремного лишь тем, что прибавилось второе блюдо
Разместили нас в том же бараке, в котором ожидали баню. На этот раз я устроился на нижних нарах. К вечеру пришел нарядчик и записал специалистов, в том числе и меня
— Где мы будем работать? — задали ему вопрос.
— Кто куда,— последовал ответ.— Одни на общих работах, другие в мастерских. Завтра работать не будете. Пройдете медосмотр.
Медосмотр напоминал мне сцену из книги «Хижина дяди Тома», или точнее «невольничий рынок».
В костюмах Адама до грехопадения мы предстали перед комиссией, которая в основном интересовалась нашими ягодицами. В зависимости от их округлости или наличия складок делали соответствующие очень краткие заключения: ЛФТ, СФТ, ТФТ (легкий, средний, тяжелый физический труд), иногда с процентами (ЛФТ — 50 %). Направляли в стационар или отдыхающую команду.
Мой диагноз был такой: алиментарная дистрофия II—III степени (без отеков), ЛФТ — 50 %.
Говоря простыми словами, я должен был выработать 50 % нормы легкого физического труда. Кроме того, мне предписали противоцинготный паек — настой хвои.
Днем позже нас отправили на работу. Дали носилки и заставили перетаскивать кирпичи с одного места на другое. После нескольких опытов с напарником пришли к выводу, что больше шести кирпичей таскать мы не в состоянии, т. к. даже без кирпичей едва волочили ноги.
Минут через пятнадцать поняли, что силы на исходе, а делать «перекур» не полагалось. За нами следили бригадиры. Тогда нашли иной выход — отправлялись то и дело в уборную, где устраивали себе десятиминутную передышку. Так и работали: четверть часа таскали кирпичи, а затем почти столько же времени торчали в сортире. Бригадиру объяснили, что у нас понос.
Прошла неделя. Барак постепенно расформировался, и нас, «чистопольских», рассовали, кого куда. Одному повезло. Он попал в пекарню — счастье, которому можно было завидовать. Я проработал еще несколько дней на «общих», а затем был вызван в санчасть.
Женщина средних лет, с интеллигентным, но строгим лицом, в очках, в белом халате, указала мне на стул.
— Садитесь! Вы, кажется, учились в 1 Московском медицинском институте?
— Да.
— На каком факультете?
— На лечебном.
— Вы не успели получить диплом?
— Нет. Я был на пятом курсе. Меня арестовали в сентябре, а в октябре мы должны были закончить институт.
— Понятно.
После этого она выслушала меня внимательно и поставила в моем личном деле диагноз: порок сердца.
Диагноз меня удивил и испугал. До сих пор пороком сердца не страдал. Может быть, она услышала систолический шум, который бывает у очень ослабленных лиц? Лишь позже я узнал, что диагноз — вымышленный, чтобы меня не отправили в этап. Санчасть лагеря нуждалась в медицинских работниках.
— Мы вас сейчас направим в инфекционное отделение, барак № 15. Будете работать лечащим врачом. Ваш начальник — Зиганшина Зайнап Абдрахмановна. Она вас введет в курс дела. У вас вопросы ко мне есть?
— Нет.
— Тогда идите.
О пятнадцатом бараке я уже наслышался. Туда направляли самых тяжелых дистрофиков, а также всех инфекционных больных, в основном тифозных и с дизентерией. Но меня это мало смущало. Главное — я мог работать по специальности.
Пятнадцатый барак мало отличался от других. Такое же длинное, мрачное, одноэтажное здание. В кабинете главврача меня встретила очень стройная женщина лет тридцати пяти с коротко стриженными рыжеватыми волосами, которые придавали лицу что-то мальчишеское. Она улыбнулась мне кокетливо и, что удивило, подала мне руку.
— Это хорошо, что вы пришли,— сказала она,— а то почти некому работать. Здесь все-таки почти 150 больных. Будете их лечить вместе с доктором Ванденко. Он тоже заключенный, как вы, и я думаю, что найдете с ним общий язык. Жить будете тоже вместе с ним в одной комнате, здесь в стационаре. И питаться будете здесь. Вещи свои можете сразу принести сюда. Больных я вам дам семьдесят. Кроме того, вечером будете вести амбулаторный прием в одном из бараков.
Впервые за два года со мной разговаривали не как с заключенным, а как с равноправным членом общества. Зайнап Абдрахмановна расспрашивала меня о семье, интересовалась, за что арестовали, где учился... и при этом ее глаза внимательно изучали меня.
Лицо ее несколько напоминало лицо известной артистки Любови Орловой, и мне показалось, что мой начальник стремился к тому, чтобы быть похожей на нее.
— А знаете,— сказала она,— я вообще хотела стать актрисой, но вот видите — стала врачом. А мне предсказывали успех.
После беседы с Зиганшиной я познакомился с Ванденко Николаем Павловичем. Это был человек среднего роста, плотного телосложения с квадратным, угреватым лицом и лысиной. Украинец по национальности, 1906 года рождения, он был арестован по 58 статье и приговорен к высшей мере наказания. Приговор позже заменили десятью годами заключения.
Он пригласил меня в маленькую комнатку с двумя кроватями, тумбочками и столом.
— Вот, здесь будете жить,— сказал он.— А это ваша койка,— он показывал на ту, которая стояла ближе к окну.— Наверно, кушать хотите? Не стесняйтесь. Я знаю, что такое тюрьма и голод. Тоже не сразу попал в лагерь.— Он открыл тумбочку и вытащил пайку хлеба.
— Возьмите.
— А вы? — удивился я.
— Не беспокойтесь. Здесь у нас есть возможность получить лишнюю пайку.
— А как? — поинтересовался я.
— Очень просто. Каждый вечер мы даем сведения о наличии больных. В зависимости от этих сведений утром получаем хлеб. Но ночью,
обычно, умирает, как правило, не менее трех-четырех человек, а то и больше. Но хлеб на них получаем. В первую очередь его забирают себе вольнонаемные, но одну-две пайки оставляют нам.
С нетерпением ждал обеда. Нам принесли его из кухни прямо в нашу комнату. Это была уже совсем другая еда. В том же гороховом супе плавала даже картошка, и гороха набралось несколько столовых ложек.
Особенно я обрадовался, когда мне на стол поставили почти полную миску с кашей. Обед превратился в сплошное блаженство.
Не хочу сказать, что я наелся. Для этого, пожалуй, потребовались бы несколько мисок каши, но я уже не чувствовал ту страшную пустоту в желудке, как до этого. В тот день я еще не работал, а только знакомился с больницей.
И вот мне выдали настоящий, белый врачебный халат, и я пошел осматривать больных.
В основном это были тяжелые дистрофики III степени, одни из которых напоминали скелеты, обтянутые кожей, другие казались надутыми воздухом, словно гигантские резиновые игрушки. Но это был не воздух, который их преобразил, а жидкость, накопившаяся в брюшной полости и конечностях.
В одной из палат, в самом конце барака, лежали тифозные.
Познакомившись с историями болезни, я понял, что лечение проводилось в основном симптоматологическое. Поносники («дристуны») получали азотнокислый висмут или экстракт дубовой коры, больные с отеками — сердечные или мочегонные средства. Широко применялись инъекции глюкозы и гипертонического раствора, а также витаминов.
Половину палат передали мне, в том числе и тифозных, остальные остались за Николаем Павловичем.
Много времени отнимала писанина. Ежедневно приходилось заполнять десятка четыре-пять историй болезни, писать эпикризы и т. п. Писал я весьма обстоятельно, и Зайнап Абдрахмановна осталась довольной.
Сама она ограничивала свою деятельность тем, что следила за кухней и санитарным состоянием больницы или же беседовала с нами.
После обеда она подошла ко мне и сказала:
— Совсем забыла, что вечером у вас амбулаторный прием. Вам выделили барак, где в основном проживают уголовники-рецидивисты. С ними вы должны быть осторожны.
— Как это понять?
— Это народ отпетый, от которого все можно ожидать. Вскоре это поймете. Все, кто придут к вам на прием, хотят в первую очередь не лекарство получить, а освобождение. А всех освобождать от работы вы, конечно, не можете. Тем более что половина из тех, которые придут к вам, симулянты. Так будьте начеку.
В бараке, где я должен был проводить амбулаторный прием, жили, по крайней мере, человек четыреста, в основном воры, грабители, хулиганы и убийцы.
Для приема выделили маленькую комнатушку, в середине барака,
отгороженную досками. Помогала мне на приеме Таня — полногрудая медсестра лет двадцати, которая, видимо, хорошо разбиралась в обстановке. Лицо у нее было простое, чисто крестьянское, с веснушками и вздернутым носиком. Она оказалась весьма услужливой и сразу объяснила мне, что одному в лагере жить нельзя.
К тому времени я еще был доходягой и на ее намеки не реагировал. Пока в предлагаемых ею услугах я еще не нуждался.
Таня положила мне на стол чистый лист бумаги и сказала:
— Сюда вы должны записать фамилии всех тех, кого освободили от работы. Это список для нарядчика. Хочу вам сказать по секрету — будьте осторожны. Много освободите — будут неприятности, а если мало — то же самое. Только в этом случае будете иметь дело не с нарядчиком и комендатурой, а с урками.
— Ну и что дальше?
— Можете получить нож в бок.
Таня вызвала сразу четверых больных, посадила их рядом на скамейку и дала каждому градусник. Всем задавали стереотипные вопросы: фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, кем работает, а потом уже, что болит?
У первого больного оказалась высокая температура.
— 38,6, — подсказала Таня.
Передо мной стоял щуплый паренек с изможденным, мертвенно-бледным лицом. Его знобило, и он шатался.
— Раздевайтесь,— сказал я.
Когда поставил стетоскоп на впалую грудь больного, то услышал множество крепитирующих и мелкопузырчатых хрипов и сразу понял, что у него воспаление легких.
— Придется тебя направить в стационар,— сказал я.
— Спасибо, доктор,— ответил он, его глаза с лихорадочным блеском выражали благодарность.
Следующий больной оказался типичным уркаганом с нахальным выражением лица и злыми глазами. Температура у него оказалась выше 40°. Пульс, однако, был нормальный.
— Раздевайтесь,— приказал я,— и садитесь рядом со мной. Уголовник неохотно сел на табуретку.
— Странно, что вы еще так бодро выглядите,— сказал я.— Вот градусник.
— Зачем? — удивился мой пациент.— Я только что измерил температуру.
— А я хочу, чтобы вы это сделали повторно. На этот раз температура оказалась нормальной.
— Можешь идти.— Я перешел на «ты».— В следующий раз будешь умнее. Переборщил с градусником.
Все это я говорил спокойным тоном, не повышая голос, словно ничего особенного не случилось.
Не сказав ни слова, уркаган повернулся и ушел.
О том, как можно повышать температуру, я знал прекрасно. Об этом мне подробно рассказывали в тюрьме уголовники.
Этот тип выбрал самый примитивный способ. Сел около горячей печки и поставил градусник таким образом, чтобы он ее коснулся.
Некоторые для этой цели привязывают подмышку мешочек с горячей золой или натирают подмышку луком или солью.
Один из уголовников говорил мне, что небольшого повышения температуры можно добиться задержанием дыхания или с помощью чеснока, который следует вставить в задний проход. Но последние способы не были проверены.
Амбулаторный прием напоминал мне своеобразную игру, где одна сторона старается симулировать, а другая доказать, что у пациента не болезнь, а искусственно вызванное отклонение от нормы.
Далеко не сразу я разгадал тайны этого искусства, но я с увлечением занимался этим делом.
Многие больные жаловались на понос, но с ними я «боролся» легко. Под надзором медсестры они должны были садиться на горшок... Большинство отказывалось от этой процедуры.
Но действительно больных и истощенных я жалел, освобождал их от работы или направлял в стационар. С амбулаторным приемом я быстро освоился, и это заметило начальство. Мне поэтому дали нагрузку — барак с отдыхающей командой.
Здесь находились ослабленные, истощенные заключенные, в основном дистрофики 1 степени, которые не нуждались в стационарном лечении, но не могли работать. Они спали, как и все остальные заключенные, на нарах, но получали дополнительный паек.
Этих больных я должен был осматривать через день. Нагрузка моя была весьма солидная: около 80 больных в стационаре, ежедневный амбулаторный прием, да еще 400 дистрофиков 1 степени, на которых также следовало заполнять что-то вроде историй болезни. Писать приходилось с утра до вечера.
К тому времени я был еще очень истощен и слаб. Говорят, что Одиссея, вернувшегося после Троянской войны и длительных странствий в свою родную Итаку, узнала лишь собака. Меня после двухгодичной разлуки не узнала бы и собака. От меня осталась лишь оболочка — я был похож на высушенный анатомический препарат. Взглянув в зеркало, я увидел унылое, серое лицо, заостренный нос, спрятанные в орбитах глаза и ввалившиеся щеки. Губы были синюшные. Кожа, шершавая как терка, свисала складками. Жир отсутствовал, атрофированные мышцы имели жалкий вид. А когда-то я был атлетом. Но есть хорошая пословица — лишь бы кости были — мясо нарастет. Кости у меня отчетливо проглядывали, и я поэтому успокоился.
Я и раньше был всегда бледным. Одни говорили — на почве малокровия, другие — из-за того, что у меня кровеносные сосуды, снабжающие кожу, расположены несколько глубже, чем обычно. Думаю, что именно это было причиной моей «аристократической» бледности.
В Чистополе, однако, пришлось убедиться в том, что на этот раз у меня действительно имелось малокровие и даже угрожающее.
Однажды, поднимаясь по лестнице после бани, я поскользнулся, и на одной из ступеней расшиб себе левое колено.
Когда я посмотрел на образовавшуюся рану, то остолбенел — такого я еще никогда не видел. Из рассеченной кожи вместо крови потекла прозрачная светло-желтая жидкость.
Только тогда я понял по-настоящему до чего я «дошел». Как медику, мне было ясно, что с такой кровью мои дни сочтены. Это случилось как раз после карцера.
По-прежнему в жизни меня больше всего интересовала тогда, в основном, одна проблема — пища, и я во сне и в бодром состоянии видел перед глазами лишь кулинарные изделия. Аппетит был прекраснейший и, несмотря на неимоверное количество еды, которое иногда удавалось получить, не помню случая, чтобы я насытился. Когда уже физически не мог принимать пищу из-за переполненного желудка, я ел глазами. Я потерял всякую брезгливость и ел что попало. Однажды я «уничтожил» кастрюлю с манной кашей и для улучшения вкуса опорожнил в нее бутылочку с витамином С. Туда, однако, попало множество муравьев, которых я безуспешно попытался выловить. Кончилось тем, что съел кашу вместе с муравьями.
Выслушивая и перкутируя больных, я с одной стороны интересовался их здоровьем, но одновременно думал о еде — что будет к завтраку, обеду и ужину?
Постепенно я начал поправляться, кожа стала гладкая, розовая и упругая, появились мышцы, я возвращался к норме.
Работа в больнице шла у меня хорошо. Все были мною довольны, как больные, так и медицинский персонал.
С первых дней пребывания в бараке №15 мне старались помочь. Видимо, мой внешний вид вызвал у персонала и особенно медсестер чувство сострадания и участия. В первую очередь добыли несколько флаконов сиропа шиповника с витамином С, и я им пользовался вместо мармелада, чтобы мазать хлеб. Регулярно стал принимать различные драже с витаминами, в т. ч. РР, чтобы бороться с признаками цинги и пеллагры.
Не верилось, что позади «чистопольский ад»,— нары, параша, спертый воздух, суп «рататуй», умершие от истощения сокамерники, допросы...
Да, следствие было закончено. А что будет дальше? Суд? Душа была неспокойна, т. к. меня обвинили по трем статьям, из которых две — за шпионаж и измену Родине, карались значительно суровее, чем за антисоветскую агитацию.
Трудно работать, да еще напряженно и умственно, когда над головой висит, словно «Дамоклов меч», страх жестокого наказания за несовершенные преступления.
Я понял тогда, почему люди, чтобы забыться, принимают наркотики и утоляют свое горе и страх в вине. Но это самообман, который лишь на
время может принести облегчение. Я всегда старался вести здоровый образ жизни, и подобные способы «утешения» были не в моем духе.
Сестры меня мало интересовали, но они с каждым днем все больше и больше стали ухаживать за мной. Эти ухаживания принимали иногда весьма грубые формы.
Однажды одна из моих сестер — Соня — молодая, здоровая девица пришла ко мне и попросила:
— Доктор, пожалуйста, выслушайте меня. Сердце часто болит... Без лишних слов Соня закрыла дверь на крючок и разделась, выставляя напоказ свои большие груди.
Сердце работало у нее отменно, как хорошо налаженный механизм.
— Ну как? — спросила она и двинулась мне навстречу, прижимая свои груди к моему лицу.
— Все нормально,— ответил я несколько смущенно.
— Неужели все хорошо? — Соня никак не хотела одеваться, и на ее лице я прочитал разочарование. Она, видимо, ожидала большего от меня.
Соня сидела за спекуляцию и в больнице продолжала комбинировать. У тяжелобольных, которые собирались к праотцам, она брала на хранение деньги и другие ценности и, вполне естественно, имела хороший «навар».
Больные в бараке № 15 были в основном очень тяжелые, и добрая половина из них, в конечном итоге, попадала в морг — небольшую, незаметную на первый взгляд, избенку. Однажды я заглянул в это малоприятное учреждение и ужаснулся. Трупы, раздетые догола, были сложены штабелем как дрова и занимали все помещение от попа до потолка. Трудно было представить себе, что эти обтянутые кожей скелеты с синими и зелеными трупными пятнами были когда-то обычными людьми, которые любили и страдали, и в которых влюблялись. Ужасным был и тот факт, что они накопились здесь всего лишь за какие-нибудь три-четыре дня.
У дистрофиков многие болезни протекали атипично, что было причиной частых диагностических ошибок. Об этом мы обычно узнавали лишь после вскрытия. Так, воспаление легких могло протекать при нормальной и даже пониженной температуре. Многие из них не осознавали тяжести своего состояния и умирали чаще всего сравнительно легко.
Как-то я наблюдал в одной палате за двумя больными, которые агонизировали. Один из них лежал с открытым ртом и то и дело, на короткое время, потеряв сознание, закатывал глаза. Другой, лежащий рядом с ним, понимающе и сочувственно улыбаясь, показал на него рукой, словно хотел мне объяснить: посмотрите, доктор, он умирает.
В это время он сам потерял сознание на несколько секунд и также закатил глаза. Скончались они оба почти одновременно.
Умирали в первую очередь «водохлебы», а также те, кто страдал сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями. У многих наблюдалось обострение старого туберкулезного процесса.
Наименее приспособленными к условиям тюрьмы и лагеря оказались южане — молдаване, румыны, грузины, которые быстрее всех совер-
шали печальный путь из стационара в мертвецкую. За ними последовали украинцы, немцы, а потом уже русские.
Смертность была велика, несмотря на более сносное питание, свежий воздух и движение.
Те дополнительные двести-триста граммов хлеба и четыре ложки гороха или могара на растительном масле, которые получали здесь заключенные, не могли компенсировать затрату их энергии.
В тюрьме все валялись на нарах или на полу и ничего не делали. Здесь же они обязаны были выполнять тяжелую физическую работу. Неудивительно, что морг едва помещал покойников, которые попадали сюда за короткий срок.
Сведения о наличии больных чаще всего составлял фельдшер Николай, молодой человек лет тридцати, который славился своими изысканными, хотя и несколько лакейскими манерами.
Он носил всегда чистую рубашку и обязательно галстук. Что касается брюк, то они имели весьма жалкий вид, но в этом была не его вина. Новых брюк в лагере не выдавали.
Николаи любил делать комплименты женщинам, целовал им руки, в том числе и Займап Абдрахмановне. Наш шеф уважал галантное обращение, и кончилось тем, что и я стал ей целовать руки, чем она осталась весьма довольна.
Когда Николай вечером обходил палаты, считая больных, он всегда незаметно включал и только что умерших. Заработанные таким образом пайки хлеба он делил всегда честно, не забывая при этом и вольнонаемных, которые старались не замечать его проделок. Они также мечтали о лишней пайке хлеба.
Николай умело спекулировал, менял хлеб на одежду, а одежду на деньги.
Медицинский персонал был довольно разношерстный и за исключением Ванденко и меня (в бараке № 15),все оказались «бытовиками».
Многие из них были осуждены за спекуляцию и служебные злоупотребления, кое-кто за аборты, мошенничество, а также и за воровство. А вообще, все оказались самыми обычными людьми, и на первый взгляд их никак нельзя было причислить к преступникам.
Вскоре, однако, я понял, что внешний вид человека еще не говорит о его душевных качествах, и многие закоренелые преступники прекрасно маскировались.
В стационаре со мной работала очень привлекательная молодая девушка лет 20—22 по имени Людмила, за которой многие ухаживали. Она имела роскошные волосы каштанового цвета и прекрасную фигуру. Когда в клубе были танцы, я чаще всего приглашал ее и всегда любовался ею. Люда говорила очень грамотно, литературным языком, и, когда я смотрел на нее, она всегда смущенно опускала свои темно-синие глаза с длинными ресницами.
Она попала в лагерь за то, что ограбила свою хозяйку, у которой проживала, но отрицала это. И мне не хотелось этому верить.
К тому времени я еще не совсем окреп, был очень стеснителен, и мои неловкие ухаживания не увенчались успехом. Как мне рассказывали, Люда довольно часто меняла своих поклонников и, якобы, обладала необузданным темпераментом. Я в это не очень верил, т. к. она вела себя в стационаре сверхскромно.
Однажды ее не оказалось на дежурстве — мне доложили, что Люду «поймали на месте преступления» и направили в карцер. В лагере интимные связи преследовались.
После карцера ее перевели на общие работы, где она вынуждена была таскать кирпичи. Месяца через четыре я встретил ее в женском бараке, оборванную и грязную. У нее была стычка с бригадиром, и она кричала на него истерическим голосом:
— Не тронь меня, гад, а то укушу тебя... (дальше следовала нецензурная брань) я сифилисная, проститутка я. Остерегайся!
Эта метаморфоза меня не только поразила, но также и научила, что узнать человека не так просто.
С Николаем Павловичем Ванденко мы жили дружно. Питались вместе, вместе посещали кино, по вечерам пили чай, рассуждали об искусстве, медицине и, конечно, о женщинах.
Ванденко не был Аполлоном, казался довольно грубоватым, но, видимо, пользовался успехом у женщин. Что могло их привлекать? Его красноречие? Физическая сила? А может быть и бумажник, набитый сторублевками?
Я видел эти деньги и никак не мог себе объяснить их происхождение. Может быть, родственники послали ему по почте? Вряд ли.
Однажды вечером к нам зашла молоденькая, миловидная девушка лет двадцати. Лицо было круглое, деревенское, с маленьким носиком, толстыми красными щечками, алыми губами и черными, густыми бровями, из-под которых лукаво выглядывали узенькие карие глазки. Темные волосы были коротко острижены.
На ней была вышитая украинская рубашка и коротенькая юбочка, которая ей придавала вид подростка. В ней было что-то детское и очень привлекательное.
— Здравствуй, Николай Павлович,— сказала она, а затем смело подошла ко мне и протянула маленькую, немного грубоватую от физической работы ручку.
— Это Нина, моя старая знакомая. Мы с ней оба с Полтавщины и даже, кажется, немного родственники. Не правда ли, Нина? — сказал, улыбаясь, Николай Павлович, посадив ее рядом с собой.
Мы сидели втроем около часа, болтали весело и угощали Нину кислым молоком и пряниками. Затем она попрощалась с нами и, смеясь, выбежала из комнаты.
— Ну, как она? — спросил Ванденко, взглянув на меня испытующе.— Мне кажется, она очень мила, и я отношусь к ней, как к своей дочке.
— Да, славная девушка. Что-то есть в ней, как лучше сказать... в ней есть «изюминка», а это, мне кажется, главное.
Нина часто посещала нас, и приятно было посмотреть, как внешне грубоватый Николай Павлович заботливо относился к ней.
Как-то я вернулся позже обыкновенного в комнату. Открывая дверь, я увидел неожиданную картину. Нина в нижнем белье, с покрасневшим лицом, растрепанными волосами и блестящими глазами сидела на коленях у моего товарища, крепко стиснувшего ее в своих объятиях. Я быстро закрыл дверь и удалился. Наконец-то я разгадал «родственные» чувства Ванденко и понял его заботливое отношение к Нине.
Когда я в полночь вернулся в комнату, Николай Павлович уже лежал один на койке и улыбался, глядя на мое несколько смущенное лицо.
— Прости,— сказал он.— Могу тебе сказать, что я живу с ней уже пятый месяц. Поэтому не удивляйся моему поведению. Конечно, она не моя родственница. Познакомился с ней во время амбулаторного приема и устроил ее у себя в качестве уборщицы. Остальное тебе понятно. Ладно — пора спать.— Ванденко повернулся на другой бок и вскоре заснул.
Я же еще долго думал о странностях жизни.
Каждый вечер, практически без выходных, я должен был вести амбулаторный прием в бараке рецидивистов. Вскоре я убедился, что это занятие непростое, и к тому же далеко не безопасное.
Сложность состояла не в том, что приходилось принимать по пятьдесят и более человек и не в трудностях диагностики. На прием приходили в основном с простудными заболеваниями, травмами, расстройством кишечника и, конечно, дистрофики.
Большого ума не требовалось, чтобы распознать суть болезни. Но кроме настоящих больных приходили десятки заключенных, которые ничем не страдали и просто хотели денек отдохнуть. Это можно было вполне понять, т. к. далеко не все воскресенья были выходными. Все они просили у меня освобождение. К ним присоединялись еще и воры-рецидивисты, которые мечтали остаться в зоне, чтобы заняться своим ремеслом, особенно во время прихода нового этапа.
Однажды два рецидивиста придумали необычный трюк: они зашли с ящиком в барак для вновь прибывших и объявили, что в него следует складывать обувь, которую полагается дезинфицировать перед баней.
В этапе были одни напуганные деревенские мужики, которые безропотно начали выполнять приказание. Когда в ящике набралось пар десять сапог и ботинок, урки сказали: «Пока хватит, а то тяжело таскать. Через пять минут придем за остальными». Больше они, однако, не показались. У меня были определенные инструкции: кого следует освобождать от работы, и я старался не нарушать их. Во всяком случае, в первое время.
Вскоре, однако, я понял, что эти инструкции рассчитаны не на этот лагерный контингент. Чтобы освободить кого-нибудь, например, с диагнозом простудного заболевания, температура у больного должна была быть выше 37—37,2°. У дистрофиков она протекала часто с нормальной или даже пониженной температурой.
А как я мог направить на работу человека, который от слабости едва держался на ногах или у кого после поднятия тяжести не разгибалась спина.
В таких случаях я вынужден был «прибавить» градусы и вместо 36,5 писать в амбулаторном журнале 37,8, или же у ослабленных с нормальным стулом ставить диагноз «энтероколит».
Нередко ко мне обращалась и медсестра Таня с просьбой освободить того или иного «больного». Чаще всего это были «придурки» — работники бухгалтерии, столовой, мастерских... от которых можно было получить что-то. Не поэтому ли у Тани я заметил новые бурки и сшитую по фигуре телогрейку.
Для таких случаев самые удобные для нас диагнозы были: энтерит, энтероколит или гастроэнтерит, говоря проще — «понос».
Эти заболевания труднее было проверить постороннему. У человека с диагнозом «грипп» можно повторно измерить температуру, а вот от человека с поносом далеко не всегда можно потребовать повторить анализ. Если он только что очистил кишечник, приходится долго ждать. А кому из начальства охота следить в зловонном сортире за стулом «доходяги»?
С рецидивистами и прочими уголовниками найти общий язык было не простым делом. Когда они поняли, что с помощью симуляции им не удастся обмануть меня, они решили добиться освобождения от работ иными путями — одни угрозами, другие просьбами.
Однажды один из уголовников, осужденный за грабеж, пришел на прием, вытащил из-под телогрейки топор и без предисловия сказал:
— Док, дай освобождение на день, или зарублю. Мне терять нечего. Парень был здоров. Среднего роста, коренастый, с бычьей шеей и мощными бицепсами. Как положено урке, носил брюки навыпуск и хромовые сапоги гармошкой. Голову украшала маленькая кепочка. Из кармана брюк выглядывал кисет с табаком.
Лицо соответствовало представлениям Ломброзо о преступниках: низкий лоб, маленькие, злые глаза, плосковатый нос и сжатые губы.
К тому времени я немного отъелся, окреп и уже выталкивал одной рукой двухпудовую гирю.
Я постарался быть как можно спокойнее, но на всякий случай, незаметно, держался одной рукой за сидение стула. Если этот тип поднимет топор — я его ударю стулом.
— Сначала сядь,— сказал я,— а потом поговорим. Обойдемся и без топора.
— Это другое дело,— согласился урка и устроился на табуретке.
— Что случилось? Зачем тебе так срочно нужно освобождение? Заболел? Скажи честно!
— Не заболел. Завтра Маруху погонят в этап. Вот надо поговорить с ней.
— Понял. Если это действительно так, дам тебе освобождение. Только топор никому не показывай и веди себя тихо. По зоне особенно не шатайся, иначе у меня будут неприятности.
— Ясно.
— И еще одно: я здесь в журнале напишу, что у тебя понос и дам тебе сейчас лекарство. Его надо принимать три раза в день
— Спасибо, док. Выручил. Век не забуду, — лицо его приняло почти радостное выражение. Урка осторожно спрятал топор под телогрейку и ушел.
— Знаете, кто это был — спросила Таня, которая присутствовала при этом разговоре.
— По статье я вижу — вор-грабитель.
— Это, конечно, так. Но он еще и один из главарей в этом лагере, «вор в законе». Кличка его «Король». Хорошо, что вы ему дали освобождение.
— Пoчeму?
— Он мог исполнить свою угрозу. Конечно, не здесь, в бараке.
— А зачем он тогда пришел с топором?
— Хотел вас припугнуть.
То, что урки в лагере не шутят, это мне было хорошо известно и поневоле пришлось пойти на компромисс. Не хотелось преждевременно, после нечеловеческих мытарств в тюрьме, распрощаться с жизнью.
После амбулаторного приема список освобожденных передавался нарядчику и проверялся в комендатуре. Из опыта я знал, что число их не должно было превышать приблизительно двадцати человек, иначе меня могли вызвать для объяснения. Если в конце приема освобожденных от работ по болезни набиралось, например, шестнадцать человек, то я мог без опасения включить еще трех-четырех «здоровых» придурков, доходяг или уголовников, которые просто хотели денек отдохнуть.
Когда в списке значилось уже двадцать человек, то отвечал «Приходи завтра. Возможность будет — освобожу. Сегодня это исключено»
Свое слово всегда держал. Таким путем я давал возможность отдыхать время от времени в первую очередь дистрофикам, но, что греха таить, в целях самозащиты, иногда и тем, которые в этом не очень нуждались.
Я встретил «Короля» дня через три-четыре после нашего знакомства. Он еще издали помахал мне рукой, и лицо его выразило радость.
— Ну, как дела? — задал я стереотипный вопрос.
— На все сто. Маруху оставили в зоне.
— Как? Не отправили в этап?
— Нет
— Как же это тебе удалось? — поинтересовался я. «Король» улыбнулся загадочно.
— Очень просто. Она заболела. А как это делается, сами знаете. Да, как можно срочно «заболеть», мне было хорошо известно. Это целая наука. Есть способы весьма примитивные, которые еще применялись во время первой империалистической войны, а может быть и раньше, но есть и очень хитроумные.
Как-то ко мне обратился пожилой мужчина с изможденным лицом и высокой температурой. У него была большая флегмона багрового цвета, занимавшая почти всю правую икроножную мышцу.
Когда я разрезал гнойник, то сразу обратил внимание на странный запах керосина. Все стало ясно. Флегмона была вызвана искусственно впрыскиванием керосина в икроножную мышцу. Этот способ применяли еще почти сто лет тому назад, если не больше, чтобы попасть в лазарет, а не на фронт.
— Зачем это сделал? Наверно знаешь, что за такие дела по головке не гладят. За членовредительство к твоему сроку могут еще прибавить несколько лет.
— Прости, доктор,— больной дрожал, не то от страха, а может быть из-за того, что его лихорадило, и крупные капли пота текли с его лба.— Не хочется помирать преждевременно. У меня маленькие дети. Пожалейте меня.
Я обработал рану перекисью водорода и еще чем-то, чтобы отбить запах, и тампонировал ее.
— Больше таких глупостей не делай,— предупредил я как можно строже, и держи язык за зубами.
— Слушаю вас.
Я обратил внимание, что у многих больных с травмами, даже пустяковыми, раны длительно не заживали. Долго не мог установить причину, но потом заметил, что у некоторых из них повязки были наложены не так, как я это делал. Решил проверить и вечером перед сном у трех больных снял бинты. У двух из них на ранах лежал медный пятак.
«Больных» я немедленно выписал из больницы.
— Еще раз увижу,— пригрозил я,— сразу сообщу в комендатуру.
После этого случая всех больных с травмами предупреждал, чтобы они без моего разрешения повязки не трогали.
С искусственными абсцессами и флегмонами ко мне обращались в первое время довольно часто. Вскоре, однако, в лагере узнали, что мне все эти приемы хорошо известны и перестали ими пользоваться.
Излюбленный способ вызвать абсцесс был такой: суровая нитка проводится сначала между зубными промежутками, где всегда пищевые остатки и, конечно, микробы, а затем с помощью швейной иглы протыкают сквозь поднятую складку кожи, например, на тыльной стороне кисти.
Нитку оставляют на сутки, а затем вынимают. Уже на вторые сутки образуется гнойник, происхождение которого легко узнать: в местах прокола (входа и выхода иглы) остаются точки и часто небольшой гнойный пузырек. Они являются доказательством того, что абсцесс вызван искусственно.
В летнее время большие абсцессы или, точнее, ожоги вызывались также с помощью едкого лютика, который прикладывали к коже. В таких случаях образовывался большой пузырь с прозрачным содержимым.
Не всегда мне удавалось распознать членовредительство или искусственную болезнь. Не всегда мог это доказать.
Однажды ко мне пришел больной, правая половина лица которого была страшно раздута, как воздушный баллон. Отек захватил также и веки и глаза, но воспалительных явлений я так и не обнаружил. Зубы были в порядке. Интуиция подсказывала мне, что отек вызван искусственно, но доказательств у меня не было.
— Вот, друг мой,— обратился я к нему по-отечески,— скажи мне честно: тебе что требуется — освобождение или лечение?
— Освобождение,— несколько удивленно ответил «больной».
— На сколько дней?
— Хотя бы на два.
— Вот что, давай условимся: ты мне скажешь, как ты вызвал отек, а я тебя освобожу от работы.
— А если не скажу? — «больной» с вызовом посмотрел на меня.
— Тогда положу в больницу и займусь тобой основательно. И, конечно, быстро сам узнаю, в чем дело. Здесь, в амбулатории некогда заниматься подобными вещами. И, конечно, сообщу в комендатуру.
— Ладно, скажу,— буркнул он.
Способ оказался довольно оригинальным. На слизистой оболочке полости рта (щеки) делается ранка, и напарник вдувает туда воздух с помощью соломинки. В результате образуется подкожная эмфизема.
Больше всего приходилось иметь дело с такими «больными», когда формировались этапы. Одни заключенные мечтали об этапе, надеясь, что там будет лучше, другие предпочитали остаться в лагере на месте.
К последним относились не только «придурки», которые хорошо устроились, но также и местные, получающие частые передачи. И, конечно, часть урок, особенно имеющих маруху — лагерную жену.
Не раз и не два меня вызывали в тот или иной барак, в амбулаторию или больницу, чтобы дать заключение: больной ли человек, который направлен в этап, или нет?
Некоторые «этапники» пили крепкий настой из табака, чтобы вызвать сердцебиение, или раствор мыла, после которого наблюдается сильный понос. Многие из них после подобных «процедур» действительно превращались в больных и направлялись в стационар на лечение. У дистрофиков такие «опыты» нередко заканчивались летальным исходом.
Уголовники, особенно рецидивисты, умеющие жить, не очень любили подобные способы. Понос — неблагородная болезнь, неприятная также и для окружающих.
Вот пришел ко мне однажды комендант и сказал: «Идите в женский барак. Там одна воровка заявляет, что у нее сифилис и поэтому отказывается идти в этап».
Женские бараки разные: для «придурков» одни, для «общих» — другие. В бараке, где живут привилегированные — бухгалтеры, повара, медсестры... порядок и чистота. Здесь двухъярусные нары «вагонки».
но на них матрацы, простыни, подушки, вышитые полотенца... Идет словно соревнование, у кого постель лучше. Да и воздух здесь чистый. Кое-где даже улавливается запах духов «Маки».
Иное дело барак для «общих» работяг. Самое страшное здесь не столько теснота и грязь, а неописуемое зловоние — такого я никогда не встречал ни в свинарнике, ни в зверинце или общественном туалете.
Эти женщины могли мыться в бане раз в десять дней, но не могли стирать регулярно белье, одежду. А большинство из них вообще не имело смены белья. И, конечно, не знали здесь, что такое вата и бинт. А мыло? Вместо него в бане выдавали небольшую порцию темно-коричневой массы, похожей на столярный клей.
А женщин здесь было не менее четырехсот немытых, запущенных... и несчастных. Ад человеческий, который унижает человеческое достоинство.
В загороженной досками комнатке, где проводился амбулаторный прием, меня ожидала молодая женщина лет 25—28. Среднего роста, крепко сложенная, с темными волосами и большими карими глазами, которые дерзко и вызывающе смотрели на меня. Голова была частично прикрыта платком, который сзади завязывался узлом.
— Вас направили в этап? — спросил я.
— Да.
— Отказываетесь?
— Почему? Ничего против этапа не имею. Только сначала пусть меня вылечат.
— А чем болеете?
— Вам, наверно, уже доложили. Я сифилисная.
— Давно болеете?
— Трудно сказать. Вот недавно была в бане и заметила.
— Почему думаете, что у вас сифилис? Кто это вам сказал? И с кем встречались?
— Я же не маленькая и немало понимаю. А кто меня наградил? Я откуда знаю? Во всяком случае, не здесь в лагере, а еще на воле.
— Ладно, об этом поговорим потом. Что вы заметили у себя в бане?
— Язву. А где — сами понимаете.
— Тогда раздевайтесь! — приказал я.
У этой женщины оказалась округлая язвочка с четкими, красными, воспаленными краями и сероватым дном, не очень плотная на ощупь и очень болезненная. Когда я дотрагивался до язвочки, «больная» подпрыгивала. Паховые железы не прощупывались.
Без всякого сомнения, язва была искусственно вызвана. Для этой цели горящей папироской делается ожог, который приобретает форму небольшого круга (кольца). Для лучшей имитации «язвочку» прижигают еще марганцовокислым калием, смазывают мылом. Она становится плотнее, но еще болезненнее. Если паховые железы и увеличиваются (воспалительные изменения), то также становятся болезненными, что не характерно для сифилиса.
— Неплохо сфабриковали,— выразил я свое мнение,— но одно вы не учли — сифилитическая язва безболезненная.
— Ничего я не делала, и я вам не верю. Пусть другие врачи проверят. Я хочу лечиться.
На меня смотрели злые глаза. Мне кажется, эта женщина была готова разорвать меня.
В это время пришел представитель из комендатуры.
— Ну что, нашли? — поинтересовался он
— Мое мнение такое,— ответил я дипломатически,— то, что у нее, не похоже на сифилис. Однако, чтобы исключить его, необходимо взять кровь на РВ.
— Что это за РВ?
— Реакция Вассермана для определения наличия сифилиса.
— Выходит, что завтра отправлять ее нельзя?
— Вполне естественно.
«Больная» такого оборота, видимо, не ожидала, и на лице ее я заметил едва уловимую улыбку. Взгляд стал теплее. Она добилась своего — небольшую отсрочку.
Когда я вышел из барака, меня догнал коренастый мужчина в ярко-красной шелковой рубашке. Это был Никола, которого все в лагере знали. Он был знаменит еще тем, что имел свыше двадцати лет не отбытого срока.
— Док,— сказал он,— подождите.
— В чем дело? — удивился я
— Хочу вас поблагодарить, — В его зажатой руке я заметил пачку денег.
— Возьмите!
— За что?
— Вы помогли моей Катьке.
— Какой еще Kaтьке?
— Моей лагерной жене. Это ее вы освободили от этапа.
— Я сделал то, что требовалось. И передайте ей, чтобы она такие глупости больше не повторяла. А деньги оставь себе.
У уголовников существовал еще один способ, чтобы избежать этапа — они наносили себе раны ножом на животе, груди, а то и шее.
Неоднократно прибегали ко мне из барака рецидивистов, чтобы срочно оказать помощь заключенному, который «перерезал» себе горло или «распорол» живот.
При внимательном осмотре, однако, оказывалось, что повреждена была лишь кожа. Для имитации опасного ранения левой рукой оттягивается кожа шеи, втыкают в нее нож и прорезают ее вперед При этом никогда не повреждаются жизненно-важные сосуды и трахея Зато на первый взгляд можно подумать, что шея перерезана.
Таким же образом или, точнее, таким же приемом разрезают и живот, т. е. складку кожи на животе.
За подобные художества заключенных отправляли в карцер суток на пять или десять. В определенных случаях могли и судить.
Я никогда не докладывал своему начальству о таких «больных», а ограничивался тем, что читал симулянтам нотацию, а затем направлял их на работу. Некоторых, однако, приходилось лечить стационарно.
Питались мы с Николаем Павловичем вполне сносно, и я уже не испытывал, как прежде, мучительного чувства голода. Правда, питание было однообразное — суп да каша и, конечно, хлеб. Так как смертность среди больных была высокая, лишние пайки хлеба оставались всегда.
Среди больных оказалось довольно много местных жителей, которые нередко получали передачи. Им приносили чаще всего сухари, вареное мясо, махорку и традиционное татарское лакомство — мед, смешанный со сливочным маслом.
У Николая Павловича в тумбочке всегда стояла литровая банка с этим желанным для нас деликатесом — дар больных, которых он лечил.
Врачи в лагере — как полубоги. Они во многом определяли участь человека. Могли его спасти от смерти, или же, наоборот, равнодушно оставить на произвол судьбы. Достаточно было отправить ослабленного заключенного на общие работы, да еще без скидки, лишить его дополнительного пайка, чтобы превратить в безнадежного «доходягу», для которого лишь один путь впереди: через стационар в мертвецкую.
По этой причине все стремились угождать врачам. Повара наливали им густейший суп и кашу сверх нормы, сапожники шили бурки, портные — френчи и аккуратные телогрейки.
Когда я еще таскал кирпичи в зоне, помощник пекаря, который со мной прибыл из Чистополя, принес мне тайком небольшую плоскую буханку хлеба весом около трехсот граммов. Тот день был для меня большим праздником.
— Берите,— сказал он, озираясь по сторонам, видимо, боясь, что кто-то может наблюдать за нами.— Когда будете работать врачом, не забудьте меня.
У него были основания бояться за свое будущее. В пекарне была большая текучесть кадров, так как никто не мог избежать соблазна прихватить с собой буханку. Если ее обнаруживали при обыске, наказание было одно: сначала в карцер суток на десять, а затем на общие работы.
Страх попасть на «общие» висел над каждым лагерником, как «Дамоклов меч», и начальство щедро наказывало этим способом за любые провинности: кражу, спекуляцию, хулиганство и также за любовь.
Наш чистопольский этап таял на глазах. Постепенно один за другим люди прошли круги ада, чтобы, в конечном итоге, перейти в мир иной. Вскоре нас осталось лишь несколько десятков в живых.
Бригадиры — Указницы — Лагерные жены — «Придурки» и работяги — Воры и обманщики
В те военные годы в лагерях смертность 1 % лагерного состава в день была заурядна. Не без основания говорили: «Кто в войну не сидел, тот лагерь не отведал».
На «общих», где копали землю, рубили дрова, таскали кирпичи и выполняли самые тяжелые физические работы, царил произвол. Здесь царем и богом, неприкосновенным вершителем судеб был бригадир. Бригадиры по своему усмотрению могли направлять подчиненных на более легкую работу или же, наоборот, на тяжелую. И, что особенно важно, определяли выработку.
Неугодного человека бригадиры могли в короткий срок превратить в ходячий скелет, а из бездельника «сделать» передовика.
Многие из них держали у себя одного или двух «бабаев» — местных жителей, чаще всего пожилых, которые только делали вид, что работали, но зато регулярно получали передачу.
Львиную долю они отдавали бригадиру, который в знак благодарности предоставлял им всякие льготы... И, конечно, эти «мешочники» всегда перевыполняли норму и соответственно получали больше хлеба. В лагере было очень много «указниц» (осужденных за самовольный уход с производства). Это в основном молодые девушки в возрасте 17—20 лет, среди которых встречалось немало привлекательных.
Когда прибывал очередной этап, бригадиры распределяли между собой в первую очередь наиболее красивых и «фигуристых» девчат. Их щадили и предоставляли самые легкие работы. Заботились о том, чтобы питание было достаточное.
За эти «блага» бригадиры требовали взаимности или, выражаясь грубее, плату «натурой». Большинство девушек, однако, (особенно сельские) были воспитаны в духе соблюдения целомудрия и сопротивлялись.
В таких случаях бригадиры быстро меняли тактику и переводили избранниц на самые тяжелые работы, где они не могли выполнить норму.
Через месяц обворожительные девушки превращались в жалких доходяг, плоских, невзрачных существ с землистым цветом лица...
Никому не хотелось голодать, в двадцать лет умирать от истощения, и славные, до того еще целомудренные девушки вынуждены были сдаваться. Они становились «лагерными женами» бригадиров, правда, ненадолго.
Насытившись, бригадиры нередко передавали своих «жен» в руки помощников, или кому-нибудь из «придурков», а их место занимала красавица из нового этапа.
Любовь, если вообще можно так называть тайные встречи мужчин и женщин в лагере, была доступна лишь избранным — «придуркам» и частично уголовникам.
Обычные работяги даже в мыслях не мечтали о женщинах. Для этого им просто не хватало необходимой нормальной мужской силы. Что касается женщин, то большинство из них страдало аменореей — следствие плохого питания и нервного перенапряжения (стресса). Это, однако, не мешало им встречаться с мужчинами.
Но кроме желания требовалось еще найти место для интимных встреч. Элита могла найти себе укромные уголочки, договариваясь заранее с заведующими баней, прачечной, цехами... а работяги?
Урки, для которых лагерь — место «где вечно пляшут и поют», решали задачу довольно просто — если они не могли найти «свободное» помещение, то устраивали маскарад. Мужчины переодевались в женское платье и ночью перебирались в женский барак. Бывало и наоборот: и среди женщин встречались весьма бойкие или, проще говоря, наглые.
В лагерях женщины были доступнее, чем на воле, и главную роль играло длительное воздержание, которое для многих было весьма тягостным. И еще одно: интимные связи украшали жизнь заключенных, заставляли забыть удручающую обстановку, являясь своеобразным наркотиком. Даже молодые девушки сдавались быстро.
Дурной пример заразителен, особенно когда впереди большой срок в пять-десять лет, и еще неизвестно, доживешь ли ты вообще до дня своего освобождения. Поэтому лишь единицы сохраняли целомудрие и главным образом те, которых никто не пожелал.
В первую очередь умирали в лагере простые рабочие. Это объяснялось не только мизерным пайком, но и тем обстоятельством, что они его полностью не получали. Их просто обворовывали.
Часть заключенных, главным образом «придурки», не питались в столовой, а получали пищу для себя и своих подчиненных прямо в кухне.
Поскольку повара были тесно связаны с бригадирами, врачами, пекарями, сапожниками, портными, или зависели от них, то, вполне естественно, наливали им супу побольше и погуще. И кашу клали в котелки также сверх нормы.
Но для этого приходилось разбавлять водой пищу, предназначенную для обычных смертных. Они в конечном итоге получали вместо супа мутную жижицу и вместо каши полужидкую массу.
Подобные операции проводили также и в пекарне, вследствие чего хлеб больше напоминал глину.
Голод заставлял людей искать способы, чтобы получить лишний кусок хлеба или дополнительную порцию каши. Они воровали, спекулировали, обманывали, правда, далеко не все. В основном уголовники.
Но за воровство жестоко карали. Когда я еще находился в общем бараке, у меня однажды пропали ботинки, и подозрение пало на дневального.
Я доложил об этом нарядчику, т. к. не мог выходить на работу. Нарядчик — здоровенный мужик — косая сажень в плечах — без слов сильным ударом кулака свалил дневального на пол, а затем стал его топтать ногами. Сначала ударил его носком сапога в лицо, а затем по ребрам, то одной, то другой ногой, словно футболист, отрабатывающий удары по мячу.
Несколько раз для этой цели использовал и каблуки, обитые железками.
Дневальный — сравнительно упитанный человек среднего роста с нагловатой физиономией и носом сифилитика — дважды пытался встать с пола, но снова был сбит с ног.
Он не кричал, только иногда от боли приглушенно стонал. Нарядчик пинками катал его по бараку и успокоился лишь тогда, когда дневальный с залитым кровью лицом затих.
Часом позже я получил свои украденные ботинки обратно. Самосуд был обычным явлением в лагере. Начальство боролось против этого варварского средства, но безуспешно. Пострадавшие боялись выдавать своих мучителей. Это было бы равносильно самоубийству.
Помню несколько случаев, когда ко мне в стационар привозили «больных» в почти бессознательном состоянии, у которых не обнаруживались заметные внешние признаки телесных повреждений.
Знакомые урки подсказали мне, что им устроили «суд» за какие-то дела и посадили на «пятую точку».
Для этой цели несколько человек поднимают жертву высоко в воздух так, чтобы ноги находились под прямым углом к корпусу, а затем с силой бросают в таком сидячем положении на пол.
Пострадавших приходилось немедленно отправлять в хирургическое отделение. Они часто погибали от внутреннего кровоизлияния, разрыва печени и т. п. Даже перед смертью они не называли имен своих истязателей.
Гораздо безопаснее было менять вещи — одежду, обувь — на деньги или хлеб, хотя это также запрещалось. Но здесь риска было меньше.
Мои ботинки, которые я привез еще из дома, имели уже жалкий вид, и я мечтал о приобретении других.
Однажды такой случай представился. В одной из моих палат лежал больной татарин по фамилии Минкин, сидевший за мошенничество. До этого я его видел лишь на сцене лагеря, где он выступал как отличный танцор, выбивающий чечетку.
Как-то он подошел ко мне и спросил:
— Доктор, вам не нужны хорошие полуботинки? — Он с усмешкой посмотрел на мою поношенную обувь.— У моего кореша есть ботинки 44 размера. Он их продает.
— Ботинки мне нужны, только сначала я должен их померить.
— Это можно устроить. Если хотите — завтра принесу. Они у меня в бараке.
На следующий день Минкин показал мне весьма приличные коричневые полуботинки. Они мне были как раз.
— Ну как?
— Мой размер. А сколько они стоят?
— Не могу сказать сейчас точно. Вечером увижу своего кореша и узнаю. Или спешите? — Минкин улыбнулся, показывая крепкие крупные белоснежные зубы. Улыбка мне не понравилась. Она была фальшивой.
Он явился вечером после ужина, но на этот раз без свертка в руках.
— Все в порядке,— сказал он бодро.— Кореш хочет двести рублей. Если дадите — сразу принесу. Не хотите — найдем другого покупателя.
— Цена меня устраивает,— ответил я и вынул из кармана деньги.
— Мигом приду.— Минкин внимательно пересчитал деньги, а затем, не спеша, спрятал их в кармане брюк.
Прошло больше часа, но он почему-то не показывался. Я решил заглянуть в его палату, авось он там задержался. Минкин лежал в постели, как ни в чем не бывало, и взглянул на меня скучающе.
— Минкин, прошу вас, зайдите в приемную, — сказал я.
— Ладно.— Он встал с постели, спокойно обулся, а затем последовал за мной. Я предложил ему табуретку, а сам остался стоять.
— Почему не принесли ботинки? — спросил я резко.
— Какие ботинки? — Минкин сделал удивленное лицо.
— Какие ботинки? Те, за которые я час назад отдал вам двести рублей.
— Ничего не знаю. Я ботинками не торгую.
Я остолбенел от удивления. Такую наглость я встретил впервые. Мне были известны подобные «приемы», но чтобы ими воспользовался больной, которого я лечил... Это просто не укладывалось в голове.
Минкин прекрасно знал, что жаловаться я не буду, т. к. купля и продажа вещей в лагере была запрещена.
— Ну и подлец! — это все, что я мог сказать. Минкин, глазом не моргнув, встал с табуретки, бросил на меня насмешливый взгляд и вернулся в свою палату.
Я рассказал об этом случае Николаю Павловичу. Он посмеялся.
— Минкина знаю давно,— сказал он.— Это жулик и мошенник высшей марки, но такой подлости я от него не ожидал. Даже самые отъявленные бандиты имеют свой кодекс чести и врача они никогда не обижают таким образом. Он для них нередко единственное спасение.
Ботинки и сапоги были излюбленными предметами торговли, т. к. в них все нуждались. Обувь в лагере не выдавали, лишь иногда, на «деревянном ходу», или «ЧТЗ» — кусок покрышки, схваченный проволокой. (ЧТЗ — Челябинский тракторный завод).
Некоторые урки только тем и промышляли, что «продавали» одни и те же сапоги, иногда по десять и более раз.
Как-то мне пришлось быть свидетелем такой проделки. Вор-карманник по кличке «Жиган» предлагал только что прибывшему в лагерь толстому татарину очень изящные и мягкие хромовые сапоги коричневого цвета. О цене они быстро договорились.
Татарин вынул деньги, «Жиган» пересчитал их, а затем отдал обувь, завернутую в газету.
— Спасибо, Друг,— сказал татарин,— выручил меня,— и очень довольный сделкой направился в свой барак.
— Не за что,— улыбнулся «Жиган» и пошел в другую сторону. Перед своим бараком татарина задержал молодой уркаган по кличке «Силач», с которым никто не хотел связываться.
— Что у тебя в свертке, гнида? — спросил он грозно.
— Сапоги, — ответил дрожащим голосом татарин.
— Сапоги? Это интересно. А может мои? Откуда они у тебя?
— Какой твоя дела? Я их купил.
— Покажи!
— Зачем покажи? Эта моя сапоги. Я знай человека, который продал. Сразу узнаю. Глаза кривой. Аида, пойдем в барак к нему,— предложил татарин.
— Плевать мне на твоего человека, покажи сапоги!
— А если не хочу? — храбрился татарин.
— Могу съездить по морде. Но не хочу марать руки. Может быть, вместе прогуляемся в комендатуру? Там знают мои сапоги.
— Почему твоя сапоги?
— Давай посмотрим их вместе. Если в правом голенище, внутри две буквы А и В, значит, это мои. Если нет — можешь шагать дальше.
Татарин раскрыл сверток, вынул правый сапог, взглянул внутрь... и увидел две буквы А и В.
— Ну как? Ясно? — спросил, злорадно улыбаясь, «Силач» и вырвал сверток у незадачливого покупателя.
В ста метрах дальше стоял «Жиган» и ждал свою долю.
Сапоги эти действительно принадлежали «Силачу» и были всем известны в лагере, благодаря необычному цвету. Вместе с «Жиганом» они их продавали всякий раз, когда появлялся новый этап и вместе с ним новые любители купить подешевле приличную обувь.
В лагере нередко предлагали мясные консервы американского происхождения, в которых после вскрытия вместо говядины или свинины обнаруживался обычный песок. Банки настолько умело были запаяны, что неопытным глазом трудно заметить обман.
Чтобы заработать деньги на хлеб, обманывали не только своего брата заключенного, но также и вольнонаемных. Среди них было немало таких, которые хотели поживиться за счет заключенных, зная, что они готовы отдать последнюю рубашку ради куска хлеба.
Очень трудно было достать в то время ткань. Изобретательные урки придумали для алчных вольнонаемных так называемую «куклу».
Для этой цели необходимо было иметь фанеру размером около 20Х70 см, метра три мешковины и около метра хорошей ткани из шерсти или шелка...
На мешковину пришивали сверху и снизу узкие ленты из хорошей ткани и обматывали ей фанеру. Для последних двух оборотов использовали остаток материала. Получалось что-то вроде рулона, в котором со всех сторон просматривалась только шерстяная (шелковая) ткань.
Вольнонаемным запрещалось иметь какие-либо контакты с заключенными, и «торговые сделки» осуществлялись лишь тайком в укромных местах, например, в туалете, и очень быстро.
«Продавец» держал свой товар под телогрейкой и слегка открывал ее, чтобы покупатель мог увидеть куклу и сосчитать количество слоев. О
том, чтобы разматывать рулон, не могло быть и речи по соображениям «безопасности».
Заплатив за ткань и спрятав ее так же быстро под пиджаком, покупатель, чаще всего, лишь дома обнаруживал обман. Жаловаться, конечно, было некому.
В одной из моих палат лежал молодой симпатичный паренек, которого все просто называли Володя. Он пришел ко мне на прием тощий и несчастный и от слабости едва держался на ногах.
— Доктор,— попросил он,— дайте мне, пожалуйста, несколько дней отдохнуть. Не могу больше работать. Сил нет.
Я его сразу направил в палату дистрофиков, где он быстро «округлился». Он постоянно что-то жевал, и мне было непонятно, где он добывал себе дополнительные источники питания.
Однажды он явился ко мне с двумя большими подушками.
— Это вам, доктор,— сказал он.
Я вытаращил глаза от удивления. Такие пуховые подушки я впервые встретил в местах заключения.
— Ты их привез из дома, Володя? — полушутя спросил я.
— Что вы. Я прибыл в лагерь с пустыми руками.
— Тогда вопрос: где ты их достал?
— В одном месте.
— Стащил?
— Как сказать... взял у одного подлюги.
— Вот что, Володя,— ответил я уже серьезно,— мне ворованные вещи не нужны и тебе не советую заниматься этим делом. К хорошему не приведет.
— А я хотел вам сделать приятное,— огорченно промолвил он.
— Понимаю, но таким способом этого не следует делать. С этого момента Володя почти каждый день приходил ко мне и всегда предлагал какой-нибудь подарок: наборный нож, металлическую ложку, расческу, конфетку, флакон духов «Маки»... Однажды он предложил мне пайку хлеба.
— Не надо,— сказал я.— Тебе она нужнее. А я всегда достану себе хлеба, если потребуется.
— И я тоже.
— Каким путем? — поинтересовался я.
— Понимаете, доктор,— Володя сделал паузу, колеблясь, стоит ли отвечать на этот вопрос,— у меня болезнь клептомания. Я должен воровать. Иногда просыпаюсь ночью, и страшно хочется чего-то украсть. Тогда встаю тихонько и обследую тумбочки в других палатах, когда все спят. Возьму, например, кусок сахара, карандаш, немного махорки, ложку соли или еще какую-нибудь ерунду. На следующий день могу и вернуть то, что взял. Я при этом чувствую себя как фокусник в цирке, который показывает различные трюки и заставляет зрителей удивляться. А хлеб зарабатываю очень просто, и никого при этом не обижаю.
Вы знаете, что очень трудно достать электрические лампочки, а они особенно нужны в больнице. Я делаю так: выкручиваю, например, лампочку в коридоре вашего стационара, барака № 15 и продаю ее зав. хирургическим отделением барака № 16. Потом беру лампочку в бараке № 17 и продаю ее бараку № 15, где до этого выкрутил лампочку. А потом все начинаю сначала. В больнице ежедневно умирают доходяги, и остается хлеб. Я его и получаю за лампочки.
— Как же ты с таким талантом стал дистрофиком?
— Очень просто. Я же работал на «общих». А там нечего взять и не у кого. Там одни нищие, такие же, как и я. И в бараке то же самое. А я не беру у чужих кровную пайку. А здесь в больнице благодать. Сестры добрые... Одной я, между прочим, и продал подушки.
Вот таким образом, такими способами люди зарабатывали себе на хлеб. Кто как мог. Правда, далеко не все. Простые работяги почти все жили только на своем пайке и поэтому подыхали, как мухи осенью.
Жизнь наша протекала в больнице спокойно, но работать приходилось от зари до зари. Утром обход больных, заполнение историй болезни, процедуры... Особенно много времени отнимали эпикризы. Вся эта писанина продолжалась до середины дня. Потом надо было ознакомиться с отдыхающей командой, а вечером проводить амбулаторный прием.
Иногда, когда позволяло время, ходил в клуб, чтобы посмотреть очередную военную картину. Обычно показывали зверства фашистов. Однажды я не выдержал и во время сеанса покинул зал. В другой раз кто-то, видимо, обратил на это внимание, меня не пустили в кино.
В первые полтора месяца пребывания в лагере меня такой образ жизни вполне устраивал. Я был сыт, и работа была по душе. Когда были свободные минуты, читал книги, писал подробные письма матери и Миле. По-прежнему часто беседовал с Николаем Павловичем. Правда, лишь тогда, когда он был один.
Если на пороге комнаты показывалась Нина, я ради приличия оставался еще минут десять, а затем, найдя предлог, освобождал помещение.
Вера — Приговор Особого совещания — Венерические больные — Этапники — «Актировка» — Белочка — Арест Ванденко
Однажды Нина пришла в сопровождении маленькой симпатичной блондиночки.
— Это Вера, моя подруга,— просто сказала Нина, Девушка протянула мне маленькую ручку и стыдливо опустила глаза. Она мало говорила, сидела скромно в углу комнаты и лишь украдкой изредка смотрела в мою сторону. Минут через двадцать она встала и попрощалась.
— Я еще должна идти на работу, простите. Об этой встрече я быстро забыл. Меня девушки тогда еще мало интересовали, и, кроме того, мои мысли были заняты иными заботами.
За два дня до этого представитель администрации лагеря вручил мне небольшую бумажку.
— Подпишитесь,— сказал он коротко.
В бумажке я прочел лаконичное известие о том, что Особое совещание НКВД СССР осудило меня как социально вредный элемент на пять лет лишения свободы.
В лагере говорили: на нет и суда нет, но есть Особое совещание. Сейчас я понял смысл этого изречения.
В тот момент я не знал — радоваться или нет? Когда меня обвинили во время следствия в шпионаже, измене родине и контрреволюционной деятельности и агитации и предъявили соответствующие статьи уголовного кодекса: 58-1 а, 58-6, 58-10, я ждал худшего. Первые две статьи в военное время означали высшую меру наказания, и я долгое время ожидал этот приговор в Чистопольской тюрьме.
Когда меня, однако, перевели в рабочую камеру, а затем в лагерь, я несколько успокоился. Все-таки следствие не нашло особых фактов и аргументов моей «враждебной деятельности». Правда, это еще ничего не значило.
И вот, когда я прочитал и понял, что сидеть придется еще два с половиной года, то вполне естественно не очень обрадовался. Как будет реагировать на это сообщение Мила? Она обещала ждать пять лет и даже больше, если я вернусь. Но кто знает?
К тому времени питание сделало свое дело, и когда я заглядывал в зеркало, то удивлялся. На меня смотрела круглолицая, розовощекая физиономия с гладкой, мягкой кожей и весьма довольным видом. Когда мимо меня проходили молодые, симпатичные девушки, я оборачивался и провожал их взглядом. Я уже не был дистрофиком, доходягой и вскоре понял, что счастье не только в работе и еде.
Однажды я поймал себя на том, что уже несколько дней обращал внимание на маленькую блондиночку, которая работала в конторе. Контора эта находилась недалеко от барака рецидивистов, который я обслуживал. После приема почти каждый раз сталкивался с этой девушкой. Очень хотелось с ней познакомиться, но каким путем, не знал.
Просто подойти к ней у меня не хватало смелости, тем более, что девушка казалась очень застенчивой.
В один из воскресных вечеров я направился от скуки в КВЧ (культурно-воспитательную часть). Там сидело несколько перекрашенных перекисью водорода девиц, которые с вызовом рассматривали меня. Я попросил у библиотекарши журнал и стал читать.
Перелистывая страницы, я случайно взглянул на соседку и был приятно удивлен. Это была та самая маленькая и симпатичная блондиночка, о которой я так мечтал. Только сейчас я мог ее разглядеть, как следует.
Она была небольшого роста, хорошо сложена, со светлыми, соломенного цвета волосами, которые были заплетены вокруг головы. Лицо с мягкими, интеллектуальными чертами, голубые глаза, прямой носик, нежные алые губы и белоснежные зубы делали ее похожей на краси-
вую, изящную фарфоровую куклу, с которой хочется играть. Ей было на вид не более двадцати лет.
Я, вероятно, слишком пристально взглянул на нее. Она это заметила, от смущения опустила глаза и покраснела. При этом она, однако, застенчиво улыбнулась.
На этот раз я решил действовать.
— Извините,— обратился я к ней,— вы не знаете, кино в столовой уже началось?
— Кажется, давно,— ответила она, и снова улыбка заиграла на ее губах.
— Жаль. Значит, я уже опоздал?
— Если хотите сейчас пойти туда, то, наверно, придете уже к концу сеанса.
— Тогда лучше буду читать журнал. А вы почему не пошли в кино?
— Откровенно говоря, сама не знаю.
— А что будете делать сейчас, нескромный вопрос.
— Пойду, пожалуй, к себе,— Девушка закрыла книжку, которая лежала перед ней и встала.
— Вы не возражаете, если я вас провожу? — спросил я.
Она взглянула на меня проказливо и ответила:
— Нет, Генри, пойдемте!
— А вы откуда знаете меня? — спросил я удивленно.
— Как же, Нина познакомила меня с вами в больнице. А вы меня уже забыли. Видно, не понравилась вам,— смеясь, ответила он». Да, сейчас и я вспомнил ее. Даже припомнил ее имя — Вера.
— Просто непонятно мне, Вера, как я мог забыть вас. Возможно, потому, что был тогда еще доходягой. Вы, наверно, заметили, что вид мой был далеко не блестящий.
— Да, у вас был неважный вид. Жалко было на вас смотреть. Сейчас этого не скажешь. Вы дышите здоровьем.
Так, перекидываясь незначительными фразами, мы подошли к конторе.
— А вы знаете, Генри, мне еще надо работать. У нас обычно с восьми до десяти вечера занятия. Придется пожелать вам спокойной ночи.— Ее лицо стало грустным, и она опустила голову.
Я понял, что для меня настал решающий момент, от которого зависели наши дальнейшие отношения. Сейчас или никогда я должен был говорить о своих чувствах, и мне казалось, что она ждала от меня признания.
— Не хочется уходить от вас, Верочка.— Я взял ее маленькую ручку, которую она мне протягивала, и не выпускал ее.— Мне было так приятно с вами. Боюсь лишь, что вам было скучно со мной.
— Что вы, я давно не чувствовала себя так хорошо, как сегодня с вами.— На этот раз ее голубые глаза смотрели с нежностью на меня.
— Тогда. Верочка, у меня будет просьба. Вы не возражаете, если иногда мы будем встречаться с вами, как сегодня, чтобы просто поболтать и поделиться мнениями?.. Тоскливо быть одному, особенно здесь, в лагере. Может быть, неприлично с первого дня знакомства обращаться к вам с такой просьбой, но зачем откладывать?
— Да, вы правы, и я с вами согласна,— ответила она тихим голосом и слегка сжала мою руку.
— Вы мне давно понравились, Вера,— продолжал я,— но мне просто не хватало смелости, чтобы подойти к вам.
— Я тоже на вас обращала внимание. Если честно говорить, еще тогда в больнице. Но вы тогда смотрели на меня очень равнодушно и холодно.
— Я уже говорил вам, что тогда еще не пришел в себя, как духовно, так и физически. Тогда я думал только о еде.
— Я вас понимаю. Только, к сожалению, сейчас должна идти. Меня ждут в конторе.
— Только еще один вопрос,— я не отпускал ее руки,— хотели бы вы видеть во мне своего друга, в самом чистом смысле слова?
— Да, Генри,— ответила она и быстро побежала в контору.
— Жду вас завтра вечером в КВЧ,— крикнул я вдогонку.
— Приду! — она махнула мне рукой и скрылась за дверью конторы.
В ту ночь я долго не мог заснуть. Перед глазами все время стояла маленькая, застенчивая Верочка. Впервые за эти два года у меня появились другие чувства, которые вытеснили мучительные мысли о еде...
Мы стали встречаться регулярно. В первое время в библиотеке, а затем около стационара. Вокруг стационара были посажены кустарники и стояли скамейки. Мы выбирали всегда самую незаметную скамейку, чтобы не обращать на себя внимания.
Иногда сидели часами и беседовали. Конечно, говорили и о том, как очутились здесь, в лагере. Верочка до войны жила в Белоруссии, а затем была мобилизована и направлена в Казань на завод. Директор завода, человек средних лет и весьма распутного образа жизни, вскоре обратил внимание на хорошенькую белоруску. Он частенько организовывал вечеринки, усиленно угощал девушек вином и стал преследовать Верочку. Кончилось тем, что она сбежала с завода. Согласно указу (о самовольном уходе с производства) ее приговорили к трем годам лишения свободы.
Самая обычная история. Многие «указницы» могли рассказать о себе аналогичные истории. Не все из них хотели продавать себя за кусок хлеба или банку тушенки.
Я был предельно деликатным. Единственное, что я позволял себе, держал в своих руках маленькие почти детские ручки Верочки.
Время было тяжелое, и я себе не мыслил дружбу без оказания помощи. Всякий раз, когда я встречался с ней, обязательно делал подарок: пайку хлеба, масло, мед или еще что-нибудь съестное, а то и деньги. И всегда передавал ей интересную книгу для чтения.
Однажды она вручила мне маленькое письмецо: «Генри! Извините, что я вас называю по имени. К сожалению, я еще не знаю ваше отчество. Очень Вам благодарна за книгу и Ваше внимание ко мне. Только зачем Вы передаете мне хлеб? Вы же тоже з/к, как и я, и тоже нуждаетесь в нем... Дружески жму Вашу руку — Вера». Все шло как будто нормально, но однажды я заметил в ней перемену. Мне показалось, что она меня избегает. Я шел как раз на вечерний прием, когда еще издали увидел Верочку. Она взглянула на меня мельком, словно на чужого, а затем свернула в сторону и растворилась в толпе идущих около барака людей. Это было очень странно. Обычно в таких случаях она бежала мне навстречу.
Два дня она не показывалась, и я решил зайти к ней в барак. Она встретила меня радостно, словно ничего не случилось, и долго разговаривала со мной. Ничего не изменилось в наших отношениях. На прощание она мне передала маленькую записочку:
«Генри! Извините за причиненную Вам грубость с моей стороны. Поверьте, я так поступила против своего желания. Обстановка, в которой мы находимся, принуждала меня к этому. Очень и очень мне неудобно перед Вами. Обманывать же человека, которого я уважаю, не могу. Простите меня за мой поступок. Дружески крепко жму Вашу руку — Вера».
Все было мне понятно. Как говорится: шила в мешке не утаишь. Вскоре заметили в лагере, что мы с Верой дружим, и начались сплетни. Кое-какие сердобольные «доброжелатели» предостерегали девушку, что она может потерять свою хорошую работу и попасть на «общие». Она, вполне естественно, заколебалась... Лишь встретив меня и увидев мое расстроенное лицо, она переборола себя.
— Что бы ни было, Генри, но я буду дружить с вами,— сказала она. Наши встречи возобновились, я продолжал снабжать Верочку продуктами, а она в свою очередь приносила мне писчую бумагу, в которой я очень нуждался.
Однажды мы сидели, как всегда, на скамейке около стационара и беседовали. Был прекрасный теплый осенний вечер и, пожалуй, никогда мы себя не чувствовали так хорошо и спокойно. Словно находились не в заключении, а где-нибудь на воле, в парке... Очень хотелось сказать Верочке что-то приятное, ласковое... Я понял, что полюбил ее. Это радовало, но и тревожило меня.
— Знаешь, Верочка,— я уже перешел на «ты»,— до сих пор не предполагал, что способен изменить жене. Под изменой я понимаю не обязательно физическую близость с другим человеком, это может быть и в душе... Я способен на «это», пожалуй, лишь тогда, когда встречу человека, который будет похож на жену. Конечно, не внешне. Сейчас я могу сказать, что изменил. Мне кажется, что именно ты содержишь в себе то, что мне близко — скромность, порядочность, чистоту... Мне кажется, что я не ошибся. Не правда ли, Верочка?
— Да,— ответила она тихо, слегка смущаясь. Наши взгляды встретились. Я обнял ее крепко и впервые поцеловал ее мягкие, алые губы. Она посмотрела на меня с доверием и с любовью, а затем закрыла глаза. Больше мы не разговаривали. Слова уже были излишними.
Была уже поздняя осень, и погода начала портиться. Шли нудные, продолжительные дожди, и сидеть под открытым небом на скамейке стало невозможно. Поэтому я пригласил Верочку в свою комнату. Стульев не было, и мы сели на мою койку. Вскоре появились Николай Павлович и Нина.
— Молодцы, что пришли сюда,— воскликнула Нина,— давно надо было это сделать.
Они тоже уселись на койку, и Ванденко угостил нас чаем с медом и пряниками. С трогательной заботливостью он ухаживал за Ниной, которая с завидным аппетитом уплетала угощения. Он то и дело наклонялся к ней и целовал ей лоб и щеку.
После чая оба стали тихо обсуждать свои новости, давая нам возможность также поделиться своими мыслями друг с другом.
Мы с Верой немного стеснялись их и не знали, как себя вести. Разговор не клеился. Немного погодя Николай Павлович встал и, заговорщически улыбаясь, направился к двери. Я не понял его. Вдруг я услышал щелчок, и в комнате стало темно.
— Зачем, Николай Павлович? — запротестовала Нина, но он закрыл ей ладонью рот и тихо засмеялся. Слышно было, как они целовались.
Мы сидели с Верочкой и молчали. Темнота и ласкающаяся рядом с нами пара действовали заразительно, и мы невольно прижались крепче друг к другу. Этот вечер превратился для нас в один длинный и жгучий поцелуй.
Такие вечера повторялись часто. Иногда и без Николая Павловича. Постепенно я пришел к выводу, что одними поцелуями наша связь с Верочкой вряд ли ограничится. Но не хотелось окончательно изменять жене.
К тому времени я еще придерживался собственного кодекса чести, правда, весьма наивного, которому я пытался следовать и здесь, в местах заключения. До женитьбы я дал себе слово не вступать в интимную связь с представительницами прекрасного пола и сдерживал его. Не могу сказать, что это давалось мне легко. Я считался интересным парнем, и соблазнов было превеликое множество. Не раз и не два женщины чуть не силой пытались совратить меня с пути истинного. После женитьбы я дал себе слово не изменять жене.
Когда я поделился этим с Николаем Павловичем, он засмеялся.
— Ты, Генри, идеалист и напоминаешь мне человека, свалившегося с луны. Ты хочешь соблюдать верность? Ради чего? Ради чести? А кому она нужна? Жене?
— Допустим.
— А ты уверен в том, что она тебе верна?
— Уверен.
— Завидую твоему оптимизму. Пойми, и женщина человек. Для нее тоже непросто жить без мужчины, особенно долго. И у нее кровь играет. А когда ей встретится человек по душе, чувства возьмут верх над благими намерениями или, проще сказать, предрассудками. Так будет и с твоей женой.
— Возможно, ты прав.
— И еще одно. После того, что мы с тобой испытали, после всего этого ужаса, хочется забыться, хотя бы на короткое время. Хочется забыть, что ты был «под расстрелом», что ты в этом лагере, где ежедневно люди умирают десятками.
А забыться лучше всего, когда держишь в объятиях женщину.
— Да, но я не совсем уверен в том, что Верочка пойдет на «это». Николай Павлович снова засмеялся.
— Пойми, если женщина идет к тебе здесь в лагере на свидание, то не ради поцелуев. Ради поцелуев никому не хочется рисковать. В лагере любовь не поощряется начальством. За нее дают карцер. И ради поцелуев и твоя Верочка не будет связываться. И еще одно: не ты будешь — другой будет. Так уж лучше тебе быть первым. Но мне кажется, что ты уже опоздал.
Я долго размышлял над этим вопросом: как быть? как поступить? Разум и рассудок, однако, далеко не всегда управляют нашими чувствами, и нередко последние берут верх над благими намерениями. Так получилось и у меня с Верочкой.
Когда наступает время, зрелый плод падает на землю — наступило время и нашим отношениям. Не забыть мне этот вечер. Она была нежная, милая и хорошая. Доверчиво обнимая меня, Верочка не отдавала отчета своим поступкам. Она была счастлива и радостно отдалась, ни секунды не колеблясь. Нам было хорошо, как никогда.
Днем позже я получил от нее письмо: «Генри! Очень много я пережила за эти последние дни. Я совершила непоправимый поступок в моей жизни. Объяснить это можно только тем, что я тебя люблю. Помнишь, Генри, ты сказал в начале нашего знакомства, что не смог бы быть другом, если бы твоя подруга не обладала скромностью и чистотой. Я теперь не смогу найти настоящего друга. Выдумывать того, чего не было на самом деле, я не смогу. Врать тоже будет очень тяжело для меня. Ведь я не смогу смотреть прямо в глаза другу, так как совесть моя будет перед ним не чиста. Но я тебя не виню. Я прекрасно осознаю и понимаю, что во всем виновата я. Генри, я тебя прошу, ты меня очень не осуждай за это. Прости меня за, быть может, нетактичные поступки по отношению к тебе. Я совсем не хочу причинить тебе неприятность. Но не всегда я могу держать себя как следует в руках.
Генри, очень тяжело то, что я стараюсь найти оправдание, но не нахожу его. Прости, Генри, меня и не будь слишком жесток ко мне, ибо мне и без того нелегко. Если бы я вела ранее разгульный образ жизни, то на все это я смотрела бы иначе. Генри, не лучше ли нам перестать встречаться? Не отрицаю, для меня это будет очень тяжело. Но если ты скажешь о том, чтобы перестать встречаться, то я все же надеюсь, что смогу взять себя в руки, и постараюсь перебороть себя насколько это мне удастся. Генри, если бы ты знал, как тяжело у меня сейчас на сердце. Еще и еще я тебя прошу, прости меня. Жму крепко, крепко твою руку. Вера».
После своего «грехопадения» совесть мучила меня не очень долго, и я вскоре успокоился. Весь мой «кодекс чести» показался мне сейчас надуманным и никому не нужным. Поэтому и все мои рассуждения о возможности измены потеряли свое значение.
Мы виделись с Верой очень часто, были счастливы, и никто не вспоминал о прежних разговорах.
О нашей связи стало известно, но мы не очень скрывали ее. Конечно, соблюдали необходимую осторожность, особенно при встречах. Часто ходили на танцы. Вера, к сожалению, не танцевала и могла лишь играть роль наблюдателя. Она сидела обычно где-нибудь в сторонке, держала мою кожанку на коленях и безропотно ждала конца танцев.
Не помню, чтобы она мне когда-нибудь возражала или повысила голос, не слышал от нее упреков. Она была всегда смирная, ласковая и нежная. Сидя у меня в комнате и положив маленькие ручки на колени, она могла весь вечер провести в полном молчании, слушая мои рассказы и заглядывая мне в лицо.
Так незаметно прошли осенние дни. Наши встречи принесли нам много радости и заставили забыть ту мрачную обстановку, в которой мы находились. Правда, иногда хотелось, чтобы Верочка вышла из равновесия, хотелось проявлений каких-то бурных чувств, пусть даже вспышек, может быть, даже слез и упреков. Но Верочка по-прежнему приходила ко мне тихая и ласковая, садилась на мои колени, как маленькая девочка, смотрела с обожанием на меня и молчала.
Однажды она заболела и не пришла. Купив на последние 150 рублей масло и мед, я помчался к ней. Она лежала в бараке на верхних нарах, закутанная в одеяло. Ее лихорадило. Я быстро вскочил на нары и присел около нее. Длинные, светлые волосы девушки были распущены, и своими милыми, голубыми глазами она восторженно смотрела на меня. Как она была счастлива, что я пришел к ней. Она гордилась этим, тем более, что сотни любопытных и завистливых женских глаз уставились на нас. Я обнял ее и долго беседовал с ней.
Утром я получил от Верочки маленькое письмо: «Как ты много сделал для меня хорошего, Генри, за наше столь непродолжительное время знакомства. Я даже не могу выразить тебе той благодарности, которую Ты заслужил. Не знаю, чем я только могу Тебя отблагодарить. Какой ты хороший и добрый, Генри. Иметь такого друга как Ты — большое счастье. Очень редко найдешь такого друга, с которым можно поделиться, который может дать только хорошие советы. Ты для меня являешься именно таким другом. Это знакомство останется для меня на всю жизнь в памяти, забыть которое я никак не смогу. Благодаря Тебе, Генри, мне не так тяжела кажется жизнь здесь. Очень и очень Тебе благодарна, Генри. Крепко, крепко жму Твою руку. Вера».
Боюсь, что я не по достоинству оценил ее преданность и любовь и не всегда был справедлив к ней. Не хочется об этом писать. Свою ошибку я помял слишком поздно, и всю жизнь буду жалеть об этом.
Приближался конец 1943 года, когда неожиданно днем пришла ко мне Верочка. Она была несколько смущена, и лицо ее выражало сочетание грусти и радости. Я ее видел такой впервые.
— Я освободилась, Генри,— сказала она тихо.— Мое дело пересмотрели. Ей было радостно и тяжело. Трудно мне было выразить свое чувство... Верочка оставила в моем сердце глубокий след и навсегда... Никогда мне не забыть эту милую и доверчивую девушку.
Я давно обратил внимание на то, что Ванденко жил далеко не по средствам. У него всегда водились деньги, да и немалые, и он постоянно снабжал ими свою Ниночку.
Не хочу сказать, что я бедствовал, но мои финансовые возможности были весьма ограниченными.
У меня существовали два источника дохода: лишние пайки хлеба, которые время от времени продавал, и сульфидин.
В моем стационаре, куда поступали больные с разными диагнозами, широко применялся красный стрептоцид. Ему на смену приходил сульфидин, которым высоко ценился. Им лечили успешно не только воспаление легких и другие заболевания, но также и гонорею.
Венерические заболевания встречались в лагере довольно часто. Особенно поразил меня тогда один случай: в одной из моих палат лежала очень миловидная девочка лет тринадцати по поводу гриппа. Мы относились к ней особенно заботливо, кормили получше, дали читать книги, нашли хорошее белье. Однажды явился к нам в стационар врач-венеролог — грузный мужчина с повадками солдафона.
— Где ваша малолетка? — спросил он с ходу. Я указал палату и вместе с ним направился туда. Девочка лежала на койке и читала сказки Андерсена. Врач сдернул с нее одеяло и грубо скомандовал:
— Снимай штаны!
Я был возмущен таким поведением, хотел протестовать, но сдержался. Как можно было так хамски относиться к ребенку. Девочка послушно, с виноватым выражением лица, разделась. Секундами позже я ахнул. Вокруг заднепроходного отверстия я увидел гипертрофические папулы, напоминающие цветную капусту, так называемые «кондиломата лата»,— признак запущенного сифилиса.
— Картина ясна,— удовлетворенно констатировал врач.— С кем спала?
Девочка смущенно опустила голову и тихо сказала:
— Он работает электриком. Его зовут Виктором.
В моем кабинете врач рассказывал мне, что на днях занимался этим Виктором. Это был зек, который сидел за грабеж и занимал в лагере должность электрика. Работа давала ему возможность бывать во всех бараках, да еще в любое время дня, и он мог при желании, если это требовалось, включить или отключить ток.
Он знал, что страдает сифилисом, но это ему не помешало вести развратный образ жизни и заразить в лагере шесть женщин. Седьмой жертвой стала девочка.
— Ее винить нельзя,— продолжал венеролог.— Она была голодная, как все заключенные, и этот мерзавец воспользовался этим. Угощал ее конфетами и приносил хлеб. Ему придется сейчас отвечать за развращение малолетних и за то, что заразил семь человек.
У меня был небольшой запас сульфидина, который я использовал в основном для лечения своих знакомых, в т. ч. и нужных мне людей.
Как-то пришел ко мне заведующий пошивочном цехом Абрам Моисеевич Вейсман, человек уже солидного возраста и далеко не Аполлон Бельведерский.
Несмотря на это он пользовался успехом у женщин. Их не смущали ни лысина, ни воловьи глаза, ни двойной подбородок и выпирающий вперед живот. Важно было другое: у Абрама Моисеевича всегда имелись в избытке все необходимые пищевые продукты, в т. ч. такие как хлеб, масло, свиная тушенка и яичный порошок.
Он брал заказы и у вольнонаемных, нередко и без наряда. Вполне естественно не бесплатно...
О себе он говорил так:
— Я своей Саре не изменяю и удовлетворяю лишь мужскую потребность.
— Доктор,— обратился он ко мне и запнулся,— понимаете, у меня к вам большая просьба. Пожалуйста, выручайте.
— В чем дело? — поинтересовался я.
— Как сказать? — Абрам Моисеевич задумался.— Надо сульфидина.
— Кому? Вам?
— Одному близкому человеку.
— А что у него?
— Сами понимаете... налетел.
— Сифилис?
— Что вы. Это была бы трагедия.
— Гонорея?
— Да.
— А может быть, положить его в больницу?
— Ой! Ни в коем случае.— Вейсман замахал руками. — Его тогда же снимут с работы. А потом еще узнают дома. Это же будет страшный скандал. Поймите, от этого, возможно, зависит вся его дальнейшая жизнь.
Я нашел сульфидина.
— Век не забуду.— Абрам Моисеевич очень ловко положил мне в карман халата пачку денег.
Вероятнее всего, подумал я, заболел он сам, или кто-то из его приятельниц — работник столовой или пекарни... Для них подобное заболевание страшнее всего, т. к. означает немедленное освобождение от занимаемой должности.
В лагере заключенные постоянно боролись за свою жизнь и при этом нередко вынуждены были нарушать общепринятые правила поведения, а также и уголовный кодекс Я не был исключением. Торговать хлебом и сульфидином тоже не полагалось, но у меня другого выхода не было.
К тому времени ботинки мои окончательно порвались, подошвы продырявились, и пальцы ног выглядывали наружу. Я ходил практически босиком по лужам и снегу. После всего пережитого в Чистопольской тюрьме не хотелось очутиться на койке с пневмонией или туберкулезом легких. Вот и пришлось против воли комбинировать.
Мне могли в лучшем случае выдать ботинки на «деревянном ходу», но показаться в них в стационаре я считал невозможным.
С помощью сульфидина, однако, я приобрел почти мгновенно отличные, легкие сапожки из плащ-палатки, которые сшил мне знакомый сапожник. У него тоже кто-то из знакомых «захворал».
Но далеко не все в лагере имели лишний хлеб и запасы сульфидина. Легче было бороться за жизнь молодым и привлекательным женщинам. Они выбирали себе по вкусу мужчин, которые могли их содержать. Практически все «придурки» имели своих «жен» и помогали им перенести все тяготы лагерной жизни. Я помогал Верочке, а Николай Павлович имел Нину.
А вот его источники дохода для меня долго были загадкой.
Николай Павлович однажды обратился ко мне с просьбой.
— Нет ли у тебя свободных мест? Мне необходимо положить двух больных в стационар.
— Пожалуйста,— ответил я.— В третьей палате три койки пустуют.
— Спасибо.
Больные, которых ко мне направил Ванденко, мало смахивали на нуждающихся в госпитализации. Оба были татары, ниже среднего роста и довольно упитанные. Я ими не очень интересовался. Они пролежали в стационаре дня четыре, а затем были выписаны.
Днем позже Николай Павлович положил мне на стол двести рублей.
— Что за деньги? — удивился я.
— Эти двое дали, которых я положил к тебе в палату.
— Не понимаю. За что?
— За то, что их освободили от этапа.
— Выходит, что ты их направил ко мне не по болезни?
— Надо как-то жить — Ванденко засмеялся
Над местными жителями, которые регулярно получали передачи, страх попасть в этап висел, и постоянно как Дамоклов меч.
Передачи позволяли им жить сравнительно сытно и даже работать спустя рукава. Этап же означал потерю этих благ, — тяжелую работу, голод, а может быть и смерть.
Вполне естественно, что местные жители стремились любыми средствами не угодить в этап. Для этой цели пытались подкупить нарядчика, а если уже оказались в списках, то обращались к врачу.
Ванденко зарабатывал себе деньги тем, что направлял здоровых заключенных с вымышленным диагнозом в стационар, чтобы освободить их от этапа.
В качестве диагноза обычно ставил острый гастроэнтерит или грипп.
Этапы формировались чаще всего из ста-двухсот заключенных и, как правило, перед отправлением кто-нибудь из них заболевал. Это было нормально и не вызывало подозрения. Всегда двух-трех человек возвращали обратно с вахты в зону, или прямо в стационар. Этим и пользовался Николай Павлович. Риск был минимальный.
Наш начальник Зайнап Абдрахмановна мало занималась лечебной работой и доверяла нам. Она ограничивалась в основном осмотром стационара, его санитарным состоянием, аккуратно посещала пищеблок и вела иногда амбулаторный прием. Заглядывала время от времени в наши истории болезни, но лишь мельком.
Заключенные ее любили. Она относилась к ним всегда вежливо и корректно и не видела в них закоренелых преступников или изменников родины. Зиганшина одевалась всегда скромно, но со вкусом и следила за своей внешностью. Не чуждалась косметики, красила губы, пользовалась пудрой и духами. Как и многие привлекательные женщины немного кокетничала. Ко мне относилась весьма благосклонно, даже с определенной симпатией.
Однажды она вызвала меня и Николая Павловича к себе в кабинет.
— Уважаемые доктора, я вас вызвала вот по какому вопросу,— сказала она, держа маленькое зеркальце в руках и поправляя волосы,— мы получили указание подобрать больных к актации, то есть таких, которых в условиях лагеря вылечить нельзя. К ним относятся, например, больные с суб- и декомпенсированными пороками сердца, почечные больные с большими отеками, тяжелые дистрофики и другие. Перечень болезней вы получите. Это, однако, касается только осужденных по бытовым статьям. Проверьте, пожалуйста, внимательно свои истории болезни и представьте мне предварительный список подлежащих актации.
— А когда она будет? — заинтересовался Ванденко.
— Комиссия должна быть дней через двадцать. К этому времени надо все подготовить и заполнить соответствующую документацию.
У меня оказалось всего лишь несколько больных, которые по состоянию здоровья подлежали актации. На самом же деле их было значительно больше, но статьи не подходили.
В стационаре началось оживление. К нам направляли с амбулаторного приема различных тяжелых хроников, и работы заметно прибавилось. Еще и потому, что акты на них должны были заполнять Ванденко и я. Правда, подписи ставили не мы. Мы выполняли лишь техническую работу.
Недели через четыре к нам в стационар явилась комиссия. В ее состав входили начальник лагеря, начальник санчасти и другие лица. Члены комиссии пошли по палатам, Зайнап Абдрахмановна держала в руках акты, а мы с Николаем Павловичем демонстрировали больных.
Как и в Чистополе, больные должны были спустить кальсоны и показать ягодицы. Когда их складки висели как кожа слона, и внешний вид заключенного напоминал высушенный анатомический препарат, члены
комиссии удовлетворенно кивали головой и шагали дальше. Когда же перед ними оказывался «сердечник» или «почечник», внешне не очень истощенный, требовались объяснения. Приходилось пальцем надавливать на голени и стопы, чтобы показать отеки, измерять артериальное давление.
В общем, первая актация прошла вполне благополучно, и больные, которых мы подготовили, спустя короткое время оказались на свободе.
К тому времени смертность в местах заключения была очень высока и, видимо, вызвала определенное беспокойство у ответственных руководителей.
Сейчас все случаи смертности разбирались на «пятиминутках», и лечащие врачи должны были давать объяснение. Правда, от этого смертность не уменьшилась, но жизнь человека снова приобретала определенную ценность.
Вскоре мы должны были вновь подготовить очередную партию больных для актации.
На этот раз деятельное участие принимала также и Зайнап Абдрахмановна. Она отправила с амбулаторного приема ряд больных в стационар и попросила меня заняться ими, т. е. заполнить истории болезни на них, а позже и документацию для актирования.
Меня несколько смущало то обстоятельство, что выглядели они не очень хворыми, и я не знал, как с ними поступить. Зиганшина облегчила мне задачу.
— Вот что, дорогой Генри,— сказала она,— Хуснутдинову и Муха-метдзянову поставьте диагноз субкомпенсированный порок сердца, а Ильясову — нефрозо-нефрит.
Я сделал недоуменное лицо:
— А если нет ясных объективных данных?
— Вполне возможно, что это так. Но мне эти больные хорошо известны по амбулаторному приему. У них часто отеки на ногах и лице, аритмия, повышенное артериальное давление, одышка... Конечно, бывают моменты, когда эти симптомы временно исчезают или мало выражены. Но это не значит, что болезни нет. Важно очень обстоятельно указать все эти симптомы в анамнезе... Больные не очень хорошо знают русский язык, и я вам помогу.
Вот я и стал заполнять истории болезни с помощью Зайнап Абдрах-мановны, практически под диктовку. Они были почти стандартны по содержанию. В анамнезе указывалось, что «больной много лет страдает заболеванием сердечно-сосудистой системы, жалуется на одышку, даже при легкой физической нагрузке, перебои, боли в области сердца и периодические отеки нижних конечностей...»
В местах заключения, как в армии, солдат не спрашивают, он не должен рассуждать, а выполнять приказ командира. Любое нарушение приказа карается. В лагере с нежелательными лицами и строптивыми расправлялись чрезвычайно просто — отправляли с первым этапом подальше от греха — в Магадан или на Колыму.
Я решил не рисковать. И, кроме того, мне нечего было терять. Акты подписывал не я, а Зайнап Абдрахмановна.
В это время бурную деятельность развил Ванденко. Он то и дело направлял больных в стационар для актации.
Однажды он вновь попросил меня положить двух больных к себе, т. к. все его палаты уже были заполнены.
— Выручай,— сказал он,— тебе тоже скажут спасибо. «Больные» — местные татары, меня привели в замешательство. Им было лет по пятьдесят, и внешне они напоминали братьев — ниже среднего роста, кряжистые, с непропорционально большой головой, короткой шеей и мощной челюстью профессионального боксера или щелкунчика.
— На дистрофиков они что-то не смахивают,— выразил я свое мнение.— Им только штангу поднимать.
— Ты все шутишь. Я тебе не говорил, что они дистрофики. Они сердечники. А то, что у них кость широкая, не их вина.
— Но я не вижу признаков декомпенсации... отеков на ногах, асцита.
— Ничего,— успокоил меня Ванденко,— пройдет дня четыре-пять, и все у них будет: и отеки на ногах, и сердцебиение, и повышенное артериальное давление...
— Понятно. Ты предложишь им пить настой табака, крепкий чай, употреблять побольше соли?
— Они сами прекрасно знают, что надо делать. Не твоя забота. Действительно дней через пять «больные» заметно изменились. Лица стали отечными, под глазами появились мешки, ноги напоминали бревна...
Один из них, с бельмом на правом глазу,— его фамилия Мифтахутдинов, подошел ко мне и шепнул:
— Помогай, доктор. У меня пять дети. Все маленький. Жена больной. Помогай, тебя не забуду.
И на этот раз у членов комиссии не было особых замечаний. Они равнодушно пошли по палатам, сделали отметки в актах и покинули стационар.
Вечером ко мне пришли в комнату оба татарина.
— Тебе большой спасибо, доктор, — сказал Мифтахутдинов и протянул мне деньги.
— Рахмат, рахмат, — вымолвил другой.
— Не надо, — возразил я. — Зачем?
— Как зачем? Ты нам хорошо, мы тебе хорошо. — Он положил деньги на стол.
Подобные комбинации меня коробили. Не люблю зарабатывать деньги на несчастье людей. Правда, я ничего не требовал, что, однако, не меняло дела.
Николай Павлович меня успокаивал.
— Чего расстраиваешься? Ты сделаешь доброе дело, если поможешь им выйти на свободу. Они не убийцы и не грабители. Собрали с колхозного поля ведро картошки, чтобы прокормить голодных детей. Вот и все их преступление. Дома от них будет больше пользы, чем здесь.
— Да, но неизвестно, чем все это кончится?
— Боишься? В акте твоей подписи нет.
— А деньги?
— Ты их просил?
— Нет.
— Тогда тебе незачем волноваться. А, кроме того, есть начальство. Их дело проверять акты.
Но у Ванденко почему-то было озабоченное лицо.
— Ты что-то не очень веселый? — спросил я.
— Есть причина.
— Актация?
— При чем здесь актация? — голос у Николая Павловича был недовольный.
— У Ниночки почти трехмесячная беременность, вот я и беспокоюсь. Она принимала хинин, делала ножные ванны, но ничего не помогло. Ее постоянно тошнит и рвет, и она не может работать. Придется ее положить в больницу. Конечно, с другим диагнозом.
— А может быть, не стоит прерывать беременность?
— Это исключено. Я ей не жених, а с ребенком возвращаться домой Ниночке, конечно, не хочется. И, кроме того, у меня семья.
— Да, это другое дело.
Дня через три, однако, Ванденко вновь повеселел.
— Все в порядке,— доложил он мне,— ночью был выкидыш.
Вообще беременности наблюдались довольно редко в лагере, т. к. большинство женщин страдало аменореей, и случай с Ниной был исключением. Его можно было объяснить лишь тем, что она питалась не в пример лучше других заключенных и жила спокойнее под крылом Николая Павловича.
В стационаре работали со мной дежурными сестрами две молодые девушки, лет по двадцать, которые хотя и имели мало общего, но дружили между собою.
Тамара — пикничка по конституции, с дряблыми телесами и крашеными перекисью водорода волосами, отличалась удивительной ленью, но прекраснейшим аппетитом. Она оживлялась лишь тогда, когда на горизонте появлялись «мальчики», к которым она была весьма неравнодушна.
Еще она имела пристрастие к деньгам и умело сочетала оба свои увлечения. В ее понятии «любовь» следовало подкреплять подношениями — звонкой монетой, сливочным маслом, конфетами или духами.
С пустыми руками она никого не принимала.
Маруся была иная. Когда я начал работать в стационаре, мое внимание привлекали в ней лишь чудесные, длинные волосы цвета льна, с платиновым отливом, из-за которых ее называли не иначе как «Белочкой».
В остальном это было невзрачное, худое и бледнолицее существо, которое питалось одними булочками и сахаром. У нас с Николаем Павловичем она вызывала лишь чувство жалости, и мы пытались помочь ей, как только могли.
Белочка была очень трудолюбивой, аккуратной и чистоплотной. В свободное время она сидела обычно где-нибудь в углу и вышивала с усердием носовые платки.
До ареста она жила в Москве, работала медсестрой и оказалась в местах заключения из-за недостачи медикаментов. Молодую, неопытную девушку жулики ловко обводили вокруг пальца и сбывали за ее спиной дефицитные лекарственные средства.
И вдруг у Белочки появился прямо-таки волчий аппетит. Она начала есть не только белые булочки, но также черный хлеб, гороховый суп, могар и начала поправляться не по дням, а по часам.
В короткий срок гадкий утенок превратился в роскошного лебедя. Мы не верили своим глазам: вместо бледного, невзрачного создания перед нами оказалась крепкая, стройная и розовощекая, голубоглазая девица с соблазнительными формами. К тому же Белочка была весьма бойкой и, видимо, чувствовала, что настал праздник и на ее улице. Она притягивала мужчин, они устремились к ней как пчелы на мед, и воздыхатели стали осаждать стационар. И я оказался неравнодушным к ней.
Не хочу сказать, чтобы я восхищался характером девушки — она была грубоватая, резкая и невоспитанная, но в ней играла кровь, и было что-то животное, что околдовывало мужчин.
Незаметно я начал ухаживать за ней. Пригласил к себе, угощал медом, маслом, купил ей духи... Она охотно принимала подарки, с аппетитом кушала, но ко мне относилась равнодушно.
Вечерами Николай Павлович нередко собирал девчат, в т. ч. и свою Ниночку, в нашу комнату, и мы играли в фанты или крутили бутылку. На кого она указывала горлышком, того и следовало целовать. Конечно, приходилось целовать и Белочку, что я и делал с большим усердием. Это, однако, не вызывало особого восторга, наоборот, девушка начала меня избегать.
Но странно, чем больше она меня сторонилась, тем желаннее она стала. Я искал, где только возможно, встречи с ней и настойчиво преследовал.
Однажды вечером я увидел ее сидящей на диване и подошел к ней.
— Что вам опять от меня нужно? — спросила она капризным тоном и встала, чтобы уйти.
— Подожди, Белочка,— ответил я и схватил ее за руку. В это время, очень кстати, погас электрический свет.
Я притянул ее к себе, но она оттолкнула меня. Тогда я прижал Белочку к стене и поцеловал в губы. Резким движением она оторвалась от меня, но при этом своими зубами ударила мои. В результате один из моих передних зубов сломался. У нее были крепкие зубы. Белочка не перенесла цингу, как я.
— Зачем это, Генри? — спросила она недовольным голосом.— Неужели так быстро забыли свою Веру?
— Все это уже позади.
— А мне что хотите сказать?
— То, что люблю тебя.
— Это все?
— Нет. Скажи, Белочка, ты хочешь быть моим другом?
— Нет,— ответила она пренебрежительным тоном, сморщила неприязненно лицо, повернулась и ушла.
Следующим утром мы вновь встретились.
— Белочка, я хочу с тобой поговорить,— обратился я к ней.
— Пожалуйста, слушаю, только поскорее, а то я спешу.
— Я хочу тебе сказать, что люблю. И независимо от наших взаимоотношений, ни с кем не буду дружить, а если дружить, то только с тобой.
— Это все, что вы мне хотели сказать? Опять начинается старая песня. Мне наплевать, что вы будете делать, но на меня не надейтесь.
После этого разговора я изменил тактику и обращался к ней только по делу. Больше не преследовал Белочку, не обнимал ее, не целовал. Правда, иногда по вечерам приглашал ее и Тамару в свою комнату на ужин, угощал девушек кислым молоком, маслом и конфетами. Нередко делал маленькие подарки, но не требовал проявления благодарности.
Белочка, конечно, заметила перемену в моем поведении, но соблюдала в лучшем случае лишь доброжелательный нейтралитет.
Я стал обращать внимание на то, что девушка по вечерам всегда переодевалась, поправляла волосы, и, радостно улыбаясь, исчезала. Я этому не придавал особого значения, но однажды наткнулся в тамбуре стационара на целующуюся пару. Это были Белочка и какой-то низкий, крепко сбитый парень с короткой стрижкой и толстощеким, деревенским лицом. Я был ошеломлен. Даже голова закружилась. Вот к кому она так радостно стремилась. Однако я сдержался и спокойно сказал:
— Зачем вы здесь стоите? Прошу вас пойти в мою комнату. Она свободна.
Я взял молодого человека за локоть и повел его к себе. Белочка следовала с красным от смущения лицом.
Я открыл дверь и несколько театрально попросил их сесть на мою кровать, т. к. в наличии имелся пока лишь один стул.
— Чувствуйте себя как дома. Если кто-нибудь придет — вас предупредят.
С этими словами я удалился, оставив пораженную Белочку. Этого она от меня не ожидала.
После этой несколько странной встречи Белочка неоднократно пользовалась моим гостеприимством и вместе со своим кавалером проводила вечерние часы в моей комнате, когда Николай Павлович отсутствовал.
Паренек, которого она себя выбрала, имел уголовное прошлое и был бригадиром. В условиях лагеря это была престижная должность. Бригадиры имели немалую власть и пользовались большим авторитетом. Белочка постепенно изменила свое отношение ко мне и больше не стала меня избегать. Даже просила меня дежурить за нее. Бывало не раз, что она ходила со своим бригадиром в кино или на танцы, а я вместо нее ставил больным градусники и раздавал медикаменты.
Мы даже нередко мирно беседовали с ней, когда она дежурила. Я по-прежнему не говорил о своих чувствах, не приставал и относился к ней так, словно со мной не девушка, а мой хороший товарищ.
Бригадир что-то реже стал посещать стационар и, как мне показалось, Белочка несколько охладела к нему.
Однажды Тамара даже подсказала мне по секрету:
— Генри, не робей. Она все равно будет твоей.
Тамара относилась ко мне с сочувствием, вероятно, потому, что я ее всегда щедро угощал.
На угощение и подарки мне приходилось тратить немало денег, и что меня удивляло: Белочка принимала все как должное. Нередко я отказывался от какого-нибудь лакомства — шоколада или конфет, чтобы угостить ее.
Так незаметно проходило время.
Однажды, в один из декабрьских вечеров. Белочка сидела у меня в комнате. Я ей рассказывал какой-то эпизод из своего прошлого, а она внимательно слушала. Тогда я осмелел и обнял ее слегка за талию. Белочка как будто ничего не заметила и оставалась сидеть, не двигаясь.
Я притягивал ее к себе — она не сопротивлялась. Я ее поцеловал в лоб, она не реагировала. Наконец я прижал ее к себе и поцеловал в губы. Она ответила. Я одержал первую победу.
Белочка, однако, была, как и прежде, сурова ко мне, и глаза ее смотрели холодно и равнодушно. По вечерам она целовала меня в ответ, а утром вновь была чужим человеком.
Иногда я задавал себе невольно вопрос: а стоит ли она вообще моих ухаживаний? И что же я нашел в ней хорошего?
Да, волосы были у нее чудесные, прекрасный цвет лица, фигура... Правда, нос немного «подгулял» и был чуть-чуть длинноватым. Но чем она была лучше Верочки? Пожалуй, ничем.
У Верочки тоже были прекрасные, длинные, светлые волосы, очень миловидное лицо, стройная фигура. К тому же она была тихая и ласковая.
Вероятнее всего, Белочка притягивала меня своим здоровым телом и своей строптивостью. Во мне играло самолюбие. До сих пор я редко встречал отказ.
Это было в начале января, ночью. В нашу комнату без стука ворвались двое мужчин в военной форме. Один из них, офицер по званию, строго спросил:
— Кто здесь Ванденко?
— Я, — ответил Николай Павлович.
— Собирайтесь с вещами!
Николай Павлович, видимо, почувствовал неладное и, когда он складывал свои пожитки, руки его тряслись.
— Это все?
— Да.
— А деньги есть?
— Да.
— Покажите!
Николай Павлович вынул из внутреннего кармана пиджака конверт с деньгами.
Офицер пересчитал их.
— Четыреста рублей,— сказал он удовлетворенно.— Откуда они у вас?
— Нужны были деньги, и я продал кое-какие вещи.
— А вы знаете, что это запрещено?
— Да. Но когда есть хочется, об этом не задумываешься.
— Вы что, здесь голодали?
— Нет, но вдруг отправят в этап.
— У вас, я вижу, на все есть ответ. Ладно, это не мое дело. Пошли! Наутро Нина пришла ко мне в слезах.
— Генри, милый, зачем его арестовали? Почему? Что он сделал? На это я, к сожалению, не мог дать ответ.
— Ничего не знаю, Ниночка, так же как и ты. Думаю, что вскоре мы узнаем, зачем его забрали.
Очередной арест — В штрафном изоляторе — Как организовали актировку — Допрос — Борьба с крысами — Суд
В стационаре всех взволновал арест Николая Павловича и, мне показалось, больше всего Зайнап Абдрахмановну. Правда, и она не знала его причину.
— У вас сейчас будет нагрузка побольше, пока замены Николаю Павловичу нет,— сказала она,— но вскоре к нам должны прислать нового врача, и вам будет легче.
— Вольнонаемного? — поинтересовался я.
— Нет. Недавно был суд над заслуженным врачом ТАССР Золотухиной, и ее направляют сюда.
— И за что ее судили?
— За наложение искусственного пневмоторакса здоровым людям. Золотухина была известным врачом фтизиатром и пользовалась большим авторитетом в республике. Чтобы освободить влиятельных лиц от военной службы, она ставила их на учет как туберкулезных больных и накладывала им искусственный пневмоторакс. Конечно, за приличную сумму денег. На вопрос, зачем она эта делала, Золотухина ответила на суде:
— Только ради своей дочери. Не хотела, чтобы она голодала. Да, голод — страшное испытание, и в борьбе с ним даже стойкий, волевой и сознательный человек может оступиться. Особенно, когда стоит вопрос о жизни и смерти. Мы с Николаем Павловичем тоже иногда нарушали законы, хотя уже не голодали. Если в первое время нас вполне устраивали дополнительные пайки хлеба, которые оставались после умерших, то несколько позже мы уже мечтали о мясе, масле и меде. Отказываться от таких лакомств было трудно.
Два года я практически знал только сырой ржаной хлеб, болтушку, гнилую капусту и изредка картошку. Только испытав подобную «диету», можно понять наше состояние. К тому же приходилось помогать и девчатам: Николаю Павловичу — Нине, а мне,— Верочке, а позже Белке и Тамаре.
По-прежнему приходилось очень много работать, особенно после ареста Ванденко, и свободного времени практически не было. Особенно напряженным был амбулаторный прием в бараке рецидивистов. Я чувствовал себя там как канатоходец, который балансирует над пропастью. Малейшая оплошность могла мне стоить жизни. Уркаганам нечего было терять, и если бы я соблюдал букву закона — никогда бы не увидел свободу. В каком-нибудь темном тамбуре всадили бы нож в бок или стукнули бы топором по голове. Вот и приходилось налаживать дипломатические отношения с уголовным миром и идти им навстречу.
Опасности угрожали и с другой стороны — и здесь, в лагере, приходилось держать язык за зубами. Можно было легко получить еще одну статью, но на этот раз уже лагерную.
Работал с нами очень скромный и добрый врач из Украины — Котля-ревский, правда, несколько неопрятный с вида, но хороший специалист. Он был осужден за религиозную пропаганду и ни перед кем не скрывал свои взгляды. Для него вера была дороже жизни.
И вот кто-то донес на него. Он был арестован и несколькими месяцами позже расстрелян.
К сожалению, всегда есть люди, готовые за пайку хлеба продать своего ближнего.
Жизнь в лагере шла своим чередом. В зоне штамповали алюминиевые ложки и миски, шили телогрейки и брюки, клепали обувь на деревянном ходу, пекли хлеб, готовили баланду и кашу из могара, выдавали настой из хвои.
По-прежнему ходили доходяги с котелком в руках по зоне в поисках съестного, умирали дистрофики в моем бараке.
Не проходило дня без происшествий. В одном бараке сделали подкоп, в другом отказались пойти в этап, а еще в одном ночью убили «стукача». Как всегда обворовали вновь прибывший этап, а два смельчака зашли в баню и облюбовали себе двух крепких девиц, которые как раз мыли голову и ничего не видели. Сопротивляться они не собирались — для них это было приятным сюрпризом. Правда, несколько необычным.
В один из январских дней Белка зашла ко мне в комнату и оставалась здесь дольше обычного. Я ее угощал, как всегда, чаем и конфетами, а после этого, сидя на койке, мы мирно беседовали. Отношения между нами были странные. Вечером мы могли целоваться, а утром казаться чужими людьми. Во всяком случае, по лицу девушки, которая могла смотреть на меня холодным и равнодушным взглядом. И на этот раз я не понял ее чувства. То она прижимала меня к себе и целовала, то отворачивалась и отталкивала.
Все это напоминало игру кошки с мышкой. Мышка уже подумала, что она отпущена и свободна, но секундами позже ее придавили лапой.
Сколько раз мне казалось, что Белочка уже моя, но всегда я ошибался.
Когда в стационаре отключали свет, что случалось довольно часто, и мы оставались в темноте, девушка меня уже не отталкивала и была на удивление ласковой... видимо, она уже окончательно забыла своего бригадира.
Днем позже, когда в прекрасном настроении вернулся после амбулаторного приема в стационар, меня задержал в темном тамбуре знакомый, пожилой татарин, которому я однажды сделал услугу.
— Доктор, вас, наверно, тоже уже вызывали? — спросил он тихим голосом, стараясь держаться в темноте.
— Куда? — удивился я.
— Вы же по одному делу с Ванденко. Я был поражен.
— По какому делу?
В коротких словах он объяснил мне следующее: подставным лицом, точнее провокатором, Николай Павлович был замешан в одно дело, связанное с актацией, и провалился. На допросе он раскаялся и рассказал о своих проделках, как госпитализировал «больных» для актации и сколько получил от них денег. Попутно Ванденко напомнил и о том случае, когда направил своих «больных» ко мне.
— Ожидайте сегодня или завтра ареста. Только, пожалуйста, никому не говорите о нашей беседе. Меня только что тоже допрашивал следователь,— оглядываясь по сторонам, шепнул мне татарин.
Я был убит. Неужели снова будут тюрьма и допросы, жесткие нары, голод и параша? Все то кошмарное, что, казалось, было уже позади? И из-за чего? Из-за человека, который, как и я, прошел круги ада, но оказался трусом и предателем.
Ночью я положил маленькую записку на стол: «Белочка, может быть, утром меня не будет. Прощаюсь с Тобой, родная. Как мне бесконечно тяжело. Вспоминай иногда меня, который Тебя искренне любил. Крепко целую Тебя. Твой Генри».
Я ожидал ареста, но ночь прошла спокойно. Вечером следующего дня Белочка дежурила, и мы беседовали с ней долго в моем кабинете. У меня было плохое предчувствие, и очень хотелось, чтобы меня искренне пожалели. В коротких словах я объяснил девушке, что может быть, скоро буду там, где сейчас находится Ванденко.
Она немного удивилась, но, кажется, это сообщение ее не очень тронуло.
Я попытался ее поцеловать, но она отталкивала меня.
— Белка, зачем? — спросил я.— Может быть, это последний раз.
— А я не хочу,— ответила она равнодушным голосом. Предчувствие говорило мне, что это наша последняя встреча, и хотелось ласкать ее, встретить сочувствие. Но Белочка была холодна, как лед, и недоступна.
Вдруг послышались тяжелые шаги в коридоре, и сердце мое тревожно забилось.
— Белочка, дай поцелую тебя в последний раз на прощание,— шепнул я и обнял ее.
Она резко оттолкнула меня. В это время открылась дверь, и вошли трое военных.
— Это вы врач здесь? — обратился один из них ко мне.
— Бабами занимаетесь? Пойдемте! — приказал он резким голосом. Я подошел к Белке, надеясь увидеть на ее лице сострадание, жалость, грусть... но ничего этого не было.
— До свидания, Белочка,— сказал я тихо.
— Пока,— ответила она, смеясь.
Мы встретились с ней через полгода, когда я случайно был направлен в Казлаг по работе. Белочка изменилась, была очень ласковая и жалела, что так грубо и нетактично относилась ко мне. Она целовала и обнимала меня, как никогда. Наша встреча длилась лишь несколько часов...
Белка писала мне изредка очень нежные и хорошие письма и раскаивалась в своем поведении. К сожалению, слишком поздно.
В памяти, однако, осталась не она, а маленькая и доверчивая Верочка. Начался обыск, который, по-моему, не принес удовлетворения моим церберам. Они ничего существенного не нашли, не считая пяти рублей.
— Это все ваши деньги? — удивился один из них.
—Да.
— Странно.
После обыска меня привели к следователю. Пока он освободился, я просидел с полчаса в коридоре, где, кроме меня, ожидал вызова мне незнакомый татарин с редкой «козлиной» бородкой.
Как и многие казанские татары он носил на голове черную бархатную тюбетейку.
Мой конвоир устроился подальше от нас, и я мог побеседовать с ним.
— А вы зачем здесь? — поинтересовался я.
— Ай, не хороший дела,— ответил он жалобно.— Тебе могу сказать.— Татарин наклонился ко мне и продолжал шепотом: — Я тебя знаю. Ты доктор. Хороший человек. И Зайнап Абдрахмановма хороший человек. Она мне помогать хочет, но здесь очень плохой человек. Фамилия не знаю. Зовут «Мойша». Он все сказал следователь, он «стукач».
От этого старого человека, не очень хорошо владевшего русским языком, я узнал всю грязную историю — как было организовано дело об актации. Кое-что еще узнал от одного человека, с которым «Мойша» откровенничал.
В каждом лагере есть оперативный уполномоченный «опер» — страж порядка, который в глазах заключенных является исчадием ада, т. к., по их мнению, только мечтает о том, чтобы всем «пришить» новое дело.
Опер, который должен был заняться мною, мечтал так же, как и все представители его профессии, о раскрытии крупных заговоров, ликвида-
ции воровских шаек и т. д. и благодаря им о продвижении по службе и новых звездочках на погонах.
Заключенные лагеря, однако, почему-то не думали о грандиозных заговорах, побегах и массовых грабежах, а также об антисоветских выступлениях и вели себя относительно спокойно.
Тогда у следователя появилась гениальная идея. Если нет стоящих дел — тогда надо их организовать. И, недолго думая, опер начал действовать. Наметив стройный план, ом вызвал своего внештатного сотрудника, или, проще говоря, доносчика, которого в лагере звали «Мойша». Он работал закройщиком в пошивочном цехе.
Это был мужчина среднего роста, склонный к полноте, с тонкими губами и крючковатым носом.
Он доносил на своих же товарищей не из чувства долга, а из-за животного страха. Он боялся лагерного начальства, боялся за свое теплое местечко в пошивочном цехе и ради этого был готов продать родного брата.
— Ты знаешь, что такое актация? — спросил его следователь.
— Приблизительно.
— И как ты думаешь, многие хотят актироваться?
— Конечно.
— Наверно, будут готовы и заплатить за возможность увидеть свободу?
— Пожалуй, да.
— Но для этого надо иметь деньги. Не так ли?
— Безусловно.
— А у кого они есть в лагере, по-твоему?
— Вероятнее всего у местных жителей-татар.
— Я тоже так думаю. Но перед тем, как говорить с тобой о деле, у меня вопрос.
— Да, слушаю вас, гражданин начальник.
— Тебе нравится работать в пошивочном цехе? Ты хорошо устроен, или есть жалобы?
— Мне там хорошо.
— Значит, в дальний этап тебе не хочется?
— Ой, что вы, гражданин начальник. Здесь в городе моя семья, дети. Они мне помогают. Я регулярно получаю передачи, — испуганно залепетал «Мойша».
— Тогда слушай внимательно. У тебя наверняка знакомые среди местных жителей-татар. Я имею в виду людей уже преклонного возраста и не очень здоровых.
— Да, есть такие.
— Вот и хорошо. Слушай дальше. Надо вступить с ними в более близкий контакт и предложить им актироваться.
— Актироваться? Каким путем?
— В пятнадцатом бараке работает заведующей врач Зиганшина. Татары ее очень уважают и часто к ней обращаются. Вот тебе здесь ее
домашний адрес. Скажи своим знакомым, чтобы они направили к ней на квартиру своих родственников. Конечно, не с пустыми руками. Тогда, я думаю, Зиганшина пойдет им навстречу и поможет в актации их родственников.
— Я вас понял.
— И еще одно: врача Ванденко знаешь?
— Да, он работает вместе с Зиганшиной.
— Направь и к нему людей для актации.
— Хорошо.
— Я говорю с тобой откровенно, так как доверяю. Думаю, что ты на правильном пути и готов стать вновь честным советским человеком.
— Да, конечно.
— Надо бороться с врагами нашего общества, многие из которых научились маскироваться. Вот наша задача с тобой, выяснить, кто они на самом деле... Я имею в виду Зиганшину и Ванденко. Последний, как ты знаешь, осужден по ст. 58 как враг народа. Я совсем не хочу кого-нибудь из них посадить на скамью подсудимых — нет, то, что мы делаем, проверка их совести, их взглядов на нашу советскую жизнь, когда идет кровопролитная война с нашим злейшим врагом — фашизмом. Ты понял меня?
— Да, гражданин начальник.
Дальнейшее уже было делом техники. «Мойша» «под секретом» раздавал адрес Зиганшиной знакомым пожилым татарам, а те в свою очередь направляли своих родственников к ней.
Вскоре после этих переговоров «больные» начали поступать в наш стационар, и мне по указанию Зайнап Абдрахмановны приходилось заполнять на них соответствующую документацию.
Одновременно кипучую деятельность проявил и Николай Павлович, в палаты которого также поступило подозрительно много пожилых местных бабаев.
Вполне естественно, что сведения о каждом «больном» тотчас же поступали и к оперу.
И вот когда накопилось достаточное количество актированных благодаря «помощи» «Мойши» — мышеловка захлопнулась.
Я же оказался здесь совершенно случайно, из-за трусости и болтливости доктора Ванденко.
Наш опер в отличие от своих предшественников, разговаривал со мной на «вы».
Он произвел на меня впечатление человека, который совершил великое дело на благо всему народу и был в восторге от самого себя. Он даже позволял себе смотреть на меня чуть ли не с симпатией.
Тем более, что он совершенно не ожидал, что в искусно поставленные сети попаду и я. Он был мне благодарен за это.
— Вы наверно знаете, зачем вас вызвали сюда на допрос? — темно-коричневые глаза под лохматыми бровями испытующе смотрели на меня.
— Нет, не знаю.
— Странно. Очень странно. Придется вам немного помочь. С врачом Ванденко вы были знакомы?
— Конечно. Мы с ним работали вместе.
— Он направлял к вам своих больных?
— Иногда, когда его койки были заняты.
— И что вы с ними делали?
— Лечил.
— Лечили? А может быть, наоборот? — на узковатом его лице с острым носом играла ехидная улыбка.
— И что вы за это получили?
— А что я должен был получать? Сказали спасибо.
— И это все?
—Да.
— Подумайте.
— А мне нечего думать.
Следователь поднял телефонную трубку и набрал номер.
— Это я. Вызовите этих двух, да, вы знаете, кого я имею в виду.
Минут через десять в комнату вошли с опущенными головами, словно нашкодившие школьники, два пожилых татарина, которых Ванденко когда-то положил ко мне, чтобы освободить их от этапа.
— Вы их знаете? — обратился ко мне опер.
— Конечно. Их направил Ванденко ко мне, когда все его койки были заняты. Я ими не занимался.
— Вам они ничего не дали за услугу?
— Не припоминаю.
— Видимо, у вас плохая память.
— Вы ему дали деньги? — обратился он к одному из татар.
— Нет, не я. Он.— Татарин показал рукой на своего соседа.
— Вы ему дали денег? — спросил его опер
— Да.
— Сколько?
— Двести рублей.
— А вы говорите, что ничего не получили,— обратился он ко мне — Кому я должен верить?
— Разрешите мне задать вопрос этому человеку.
— Спросите.
— Я просил вас давать мне деньги?
— Нет,— смущенно ответил татарин, стараясь не смотреть мне в глаза.
— Вы мне дали деньги лично?
—Нет.
— А кому вы тогда передавали деньги?
— Доктор Ванденко. Он сказал, тебя дает.
Следователь с недоумением смотрел на свидетелей.
— Ванденко вам отдал деньги?
— Что-то не припоминаю.
Следователь недовольным голосом вызвал конвоира.
— Отведите этого,— он показал рукой на меня,— в следственный изолятор.
— А вы идите обратно в свой барак,— злым голосом приказал он свидетелям. Следственный изолятор, он же и карцер, не вызвал во мне большого восторга. Невзрачное, серое одноэтажное здание больше походило на морг или, в лучшем случае, на прачечную.
В узком коридоре, освещенном тусклой лампочкой, пахло хлорной известью и испражнениями. Здесь у меня отобрали вещи, в т. ч. и меховую кожанку. Оставили только то, что было на мне.
Было уже за полночь, и очень хотелось спать. Меня поместили в самую крайнюю камеру. Это был по существу карцер — маленькое помещение без нар, цементный пол, параша в углу и крохотное оконце с решеткой. Стекло в одном месте было разбито, и оттуда меня пронизывал холодный воздух.
Настоящий морозильник. Он мне очень напоминал Чистопольский карцер.
Я стоял в нерешительности и не знал, что делать. Потом подумал и взялся за осмотр камеры. Стена около окна была сырая и очень холодная. Для сна наиболее подходящей оказалась противоположная стена, т. е. место около нее.
Я снял сапоги, свернул их и положил под голову. Затем лег на цементный пол. Хорошо, что на мне был норвежский свитер, иначе я бы замерз. Пришлось, однако, свернуться калачиком, чтобы как-то согреться.
На цементе долго не поспишь. К утру стало невыносимо холодно. Зубы начали стучать, и я дрожал, как осиновый лист. Пришлось сделать гимнастические упражнения и заняться бегом на месте, чтобы согреться.
В голове появились мрачные мысли — в таких условиях долго не проживешь. Еще несколько подобных ночей, и воспаление легких обеспечено. В условиях лагеря это было равнозначно смерти. Сколько погибло на моих глазах дистрофиков, которые «схватили» пневмонию.
Одновременно тревожили предстоящие допросы. История с теми двумя «больными», которых спас Ванденко от этапа, положив их в мою палату, меня не беспокоила. Деньги вручили Николаю Павловичу, а не мне... Волновал случай с теми двумя татарами, которых пришлось актировать по просьбе Ванденко.
Конечно, можно было отрицать факт получения денег, но их было двое. Вера будет им.
Пока я знал лишь то, что Ванденко проболтался и, конечно, мог отрицать факт получения денег. Он при этом не присутствовал. Хуже, если Мифтахутдинов и его напарник подтвердили показания Николая Павловича.
День тянулся бесконечно долго, и лишь когда приносили еду, становилось немного веселее. Правда, пища была весьма скудная. Утром пайка и кипяток, в обед жидкая баланда и ложка могара, вечером снова баланда. Но еда это все-таки занятие, и при желании процесс можно было и растянуть.
Главное, что угнетало в камере — скука и безделие. Не с кем поговорить и нечего делать. Да и не было ничего подходящего под рукой — ни иголки для шитья, ни карандаша и ни ножа. В Чистополе как-то добыл огрызок карандаша, предмет, за который полагался карцер, и убивал время тем, что писал стихи. Здесь и этого не было.
Оставалось лишь думать о своей судьбе. Перед тем, как меня забрали в изолятор, я еще успел написать Миле письмо, в котором были такие строки: «Обстановка осложнилась, и поэтому не могу Тебе сказать, когда освобожусь. Поэтому, если на Твоем пути встретится порядочный человек, не задумывайся и устраивай свою судьбу так, как считаешь нужным. Я в обиде не буду...»
Прошли первые три дня в изоляторе, и пока меня больше не вызывали на допрос.
Измотался основательно и, главное, из-за холода, который не давал заснуть. Когда лежал на одном боку, замерзал другой, когда устраивался на спине — зябли грудь и живот. К тому же и бетонный пол не грел. В Чистопольском карцере я чувствовал себя значительно лучше. Было за что прийти в отчаяние.
Днем ходил взад и вперед по камере или отбивал чечетку, чтобы согреться. В лагере были цыгане, и один из них показал мне несколько «па». У него я купил как-то за несколько паек хлеба нарядную шелковую рубашку. Мои все уже пришли в полную негодность. Сразу после покупки надел рубашку, но вскоре пришлось ее снять. Кожа сильно чесалась. Когда обследовал рубашку, то обнаружил под мышками несколько десятков откормленных вшей.
Вертухай как-то обратил внимание на мою пляску и спросил:
— Тебе что весело, что танцуешь?
— В этом морозильнике поневоле запляшешь,— ответил я,— но, во всяком случае, не от радости.
— В следующий раз будешь умнее. Тебя никто не приглашал сюда,— ответил он.
И вот однажды кто-то очень тихо отворил кормушку, бросил сверток в камеру и шепотом сказал: «От Вейсмана».
Сверток состоял из телогрейки, в которую была завернута солидная пайка хлеба. В тот момент мне показалось, что в камере засветило солнце.
Меня радовало не только то, что сейчас буду защищен от холода, но и тот факт, что есть люди на свете, которые помнят добро и не оставляют в беде.
И меньше всего я думал, что одним из них окажется тот самый Вейс-ман с воловьими глазами, лысиной и крючковатым носом, которому я однажды достал сульфидин.
Сейчас я мог использовать телогрейку в качестве подстилки или завернуться в нее. С этого момента я уже почти не страдал от холода и век мне не забыть толстенького Абрама Моисеевича, который, вполне возможно, спас мне жизнь.
Я нашел своеобразный способ убить время. Я ложился на телогрейку, закрывал глаза и начинал вспоминать с мельчайшими подробностями наиболее интересные события в своей жизни — поездки на Кавказ, в Сванетию, знакомство с Милой и другими девушками.
Как на экране кино прошли перед глазами эти эпизоды, и вновь я словно пережил все заново.
На четвертый день пребывания в изоляторе меня вызвали снова на допрос.
— Ну, как вам живется на новом месте? — поинтересовался опер с ехидной улыбкой.
— Во всяком случае, не как в санатории.
— А мы и не собирались создать вам санаторные условия.— Следователь вынул коробку папирос из письменного стола и закурил. Выпуская облако дыма, он раскрыл папку, и положил на стол исписанный лист бумаги.
— Вам знакомы фамилии Мифтахутдинов и Салахов?
— Кажется, это больные, которые лежали у меня в стационаре. То, чего я опасался — случилось. Мифтахутдинова и Салахова я прекрасно помнил. Именно их направил ко мне Ванденко для актации. Выходит, следователь был в курсе дела.
— Расскажите подробно, при каких обстоятельствах вы с ними познакомились?
— Ванденко, с которым я работал вместе, попросил меня актировать этих больных, так как все его койки были заняты.
— Это были тяжелые больные?
— Тяжелые? Они были хрониками. В условиях колонии их состояние здоровья могло только ухудшаться.
— Комиссия была другого мнения.
— Вполне возможно. Не всегда легко дать заключение о том, подлежит ли данный больной актации, или нет. Для этого и существует комиссия, чтобы сделать окончательные выводы.
— У нас другие сведения. Мифтахутдинов и Салахов обратились к Ванденко и вам, чтобы вы их актировали, и обещали взятку.
— Это не так. Я никогда и ни у кого не спрашивал денег.
— Меня это не интересует. Вы получили от них деньги? Что мне ответить? Если скажу нет, а они сознались, тогда окажусь лжецом. А вдруг они не сознались? Надо было обойти этот вопрос, дать уклончивый ответ.
— Не помню, чтобы они мне дали деньги в руки,— сказал я.
— Тогда слушайте показания Мифтахутдинова.
Не спеша и, видимо, с наслаждением опер прочитал показания татарина. Тот подробно рассказывал, как сначала обратился к Ванденко, а затем был им направлен ко мне. Даже описывал, как положил деньги на стол. Единственное, о чем умалчивал следователь, это то, что Мифтахутдинов обратился к Ванденко по совету «Мойши», а тот в свою очередь получил указание от него — опера.
— Это было так? — колючие глаза следователя фиксировали меня.
—Да.
— А почему вы сначала отрицали факт получения денег?
— Я не отрицал. Я только говорил о том, что деньги мне не передали в руки.
Глаза опера даже округлились, услышав такой схоластический ответ. Но важнее, чем этот схоластический прием, было для него мое признание.
— Значит, деньги получили?
— Да, но я об этом не просил. Деньги бросили мне на стол. Не драться же мне с этими людьми.
— Меня это не интересует.
Следователь с довольным видом подал мне ручку и лист бумаги с протоколом допроса.
— Подпишите,— сказал он торжествующим тоном.
В изолятор я вернулся в подавленном настроении. Мне было непонятно — как можно так поступать. Сначала чуть ли не на коленях просили помощь, а потом подло продали. И Ванденко тоже хорош.
Я никогда не был сребреником — корыстолюбцем и не ради денег актировал людей, которые, быть может, не по всем статьям подходили под актирование.
Мне всегда было трудно отказывать людям в помощи, особенно тогда, когда они об этом очень просили.
Ночь после допроса прошла беспокойно. Но совершенно по другой причине. Спать не давали полчища мышей, а также крыс, которые бегали по камере и через меня. Видимо, в поисках пищи, но вполне естественно безуспешно. Меня держали на голодном пайке.
Надо было с ними бороться. Но как? Я долго думал над этим вопросом. Потом появилась идея. Я положил брезентовый сапог на середину камеры и с расстояния метра от него, по направлению к нему положил кусочки хлеба на бетонный пол.
Если грызуны голодны, то обязательно займутся хлебом и заглянут внутрь сапога. Тогда надо быстро зажать голенище. Откровенно говоря, я мало верил в успех, но результат оказался сверх ожидания удачным.
Конечно, приходилось лежать не шевелясь. Грызуны, однако, были на редкость нахальными, и не боялись меня, что облегчало задачу.
Вот появилась первая крыса. Она высунула голову из небольшой дыры в углу камеры, понюхала воздух, а затем быстро побежала к хлебным крошкам. Съела одну, вторую, третью, а затем остановилась у голенища сапога. Подумала немного и заглянула внутрь. А там лежали самые большие куски. Крыса была грязновато-бурого цвета с плешинками и, видимо, очень голодная. Секундами позже она исчезла в сапоге. Пора было действовать. Я мгновенно схватил голенище и зажал его. Открыл крышку параши и бросил туда крысу. К моему удивлению она там очень быстро околела.
С хлебом у меня было туго и поэтому в качестве приманки использо-
вал лишь сверхминиатюрные крошки. Это, однако, не смущало грызунов, они были голоднее меня.
Делать было нечего, и я с увлечением занялся этой охотой. В первые дни поймал четырех крыс и мышей, позже не больше двух-трех.
Особенно тягостно было в камере в воскресные дни. Где-то недалеко от лагеря находился парк, и вечером нередко играл духовой оркестр. Часто транслировали по радио музыку и почти всегда русские песни в исполнении Лидии Руслановой: «Валенки, валенки», «Живет моя отрада»... Нередко передавали и полонез Огинского, который, видимо, стал особенно популярным.
Где-то люди еще танцевали, обнимались, радовались... а мне приходилось лежать на жестком и холодном бетоне.
Правда, на воле далеко не все радовались — шла война, а война — это голод, лишения и смерть.
В изоляторе обычно царила гробовая тишина, и лишь изредка слышались голоса дежурных или раздатчиц пищи.
Но однажды я обратил внимание на странный шум, ругань и возню в коридоре.
— Гады, сволочи,— орал кто-то, а затем захрипел.
— Чего с ним церемониться. Свяжи его покрепче, мерзавца,— слышался другой голос,— еще немножко! Тяни! Вот, хорошо.
— А не слишком?
— Ничего с этим подонком не будет. Ему не впервые...
Голос этот мне показался знакомым и принадлежал одному из вольнонаемных врачей.
Человек, которого связали, больше не сказал ни слова, только тихо стонал и тяжело и прерывисто дышал.
Все это происходило совсем рядом с моей камерой. Утром следующего дня в изоляторе был переполох. Приходили и уходили какие-то люди, слышались встревоженные голоса, открывались и закрывались двери камер, гремели ключи и засовы.
— Врача сюда! — скомандовал, видимо, представитель лагерного начальства.
На несколько минут наступила тишина, а потом я вновь услышал голоса.
— Принесите носилки!
— Выносите!
Лишь позже я узнал, что человек, которого связывали — уголовник-рецидивист с большим сроком. Он спрятался в зоне, когда его назначили в дальний этап. Нашли его только дня через три, и, видимо, обращались с ним не очень ласково. Обозлившись, он оказал сопротивление. В карцере за строптивость ему надели смирительную рубашку.
При этом тело человека скрючивают в дугу. Затылок почти касается пяток. Положение, опасное для жизни, дыхание становится затрудненным, нарушается нормальное кровообращение.
Заключенные, которые подвергаются таким истязаниям, должны на-
ходиться под наблюдением врача. В данном случае врач дал «добро» без тщательного медицинского осмотра. В итоге, заключенный погиб.
Несколько позже одного из главных виновников этой трагедии «проиграли» в карты и вскоре убили.
Тоскливо и однообразно, один за другим, протекали дни в изоляторе. И, главное, неизвестно было, сколько еще придется сидеть. Пока я ждал окончания следствия.
Опер, видимо, не очень спешил, или, возможно, занимался допросом других свидетелей и обвиняемых. Обо мне он вспомнил лишь дней через десять. На этот раз он заинтересовался моими связями с Зайнап Абдрахмановной.
— Она поручала вам актировать своих больных?
— Да, иногда.
— Что это были за больные?
— Разные. Чаще всего страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и дистрофики.
— Они все подлежали актации?
— По-моему, да.
Следователь прощупывал меня и так и сяк, и допрос напоминал шахматную игру, где опер пытался устроить мне ловушку. Он ждал опрометчиво сказанного слова, за которое можно зацепиться, надеялся, что я скажу что-нибудь против Зиганшиной.
И вдруг он задал мне совершенно иной вопрос, как говорится «из другой оперы».
— А вы что-нибудь рекомендовали тем лицам?
— Кому?
— Ну тем больным.
— А что я должен был рекомендовать?
— Ну, например, чтобы они больше пили воды и больше употребляли соли.
— Зачем? Все заключенные и без меня прекрасно знают, что соль и вода вызывают отеки.
На этом вопросе кончилось следствие, и следователь заставил меня в последний раз подписаться.
— Вот и все,— сказал он удовлетворенно, затем снял телефонную Трубку и вызвал конвоира.
Я потерял счет дням, которые провел в следственном изоляторе. Заметно стал терять в весе. В больнице я отъелся неплохо и имел определенное «соцнакопление», которое сейчас выручало. Пока, однако, несмотря на очень скудное питание, не стал еще доходягой.
В камере по-прежнему царила «холодина», но уже чувствовалось приближение весны. На «наморднике» появились длинные сосульки, и за окном чирикали воробьи.
За это время отлежал себе все бока, и сон стал беспокойным. Мысли были целиком заняты предстоящим судом. Что он принесет? Сколько прибавят?
Снова и снова начинал анализировать всю историю с актацией и, конечно, задал себе вопрос: зачем я впутался в нее? И главное, зачем я связался с Николаем Павловичем и татарами? Да еще и принял от них деньги?
Ответ был простой — не хватило принципиальности. Меня не очень привлекали деньги. Эти двести-триста рублей не делали погоды, и я мог их заработать гораздо легче и безопаснее, продавая лишнюю пайку хлеба, сульфидин, или еще что-то в этом духе.
Я хотел быть «хорошеньким», «добреньким», спасителем на грешной земле, помогать всем, и не хватало смелости, чтобы сказать слово «мет».
И еще один вывод я сделал из этой истории: хороших людей много, но всегда существуют мерзавцы — они и есть капля дегтя в бочке меда.
В деле об актации чувствовалась рука опытного провокатора, умелого организатора, для которого мы были марионетками. Вряд ли Мифта-хутдинов и Салахов сами докладывали оперу, что их положили по знакомству в стационар, да еще за деньги.
Механизм был иной. «Мойша» направил их к Ванденко и, возможно, сам рекомендовал, сколько рублей класть на стол или вложить в карман халата лечащего врача. Остальное было вопросом техники, т. е. техники ведения допроса. Вероятнее всего струсил сначала Ванденко, а тем двоим не оставалось ничего, как тоже сознаться, тем более что «чистосердечное признание» может смягчать наказание...
Еще недавно я мог сказать: половина срока позади — сейчас долгожданная свобода отодвинулась далеко от меня. И Мила тоже. Трезвый разум подсказывал, что нечего надеяться на продолжение совместной жизни. Годы идут неумолимо. Ей нужна семья, а не смутная надежда, что я когда-нибудь вновь появлюсь на ее горизонте.
Мила послала мне однажды стихотворение К. Симонова «Жди меня», которое было в то время чрезвычайно популярным на фронте. Мы находились здесь в глубоком тылу, не воевали с фашистами и не закрывали грудью вражеские амбразуры. Однако, потери наши были не меньше, чем там на передовой. Только смерть не именовали здесь героической...
По моим подсчетам прошло уже около ста дней, когда неожиданно открылась дверь камеры, и грубый голос скомандовал: «Выходи!»
Мне вернули вещи, и в сопровождении конвоира я зашагал через зону по направлению к вахте.
Впервые, после трех месяцев пребывания в следственном изоляторе, мне дали возможность подышать свежим воздухом. Даже голова закружилась — я, словно опьянел.
Меня «сдали» на вахте, и уже в сопровождении другого сторожа я покинул негостеприимное заведение. На этот раз не заставили идти пешком, а «погрузили» в «черный ворон».
В одной из кабин я заметил Ванденко, который мне криво улыбнулся. Надо было отплевываться, но я тоже улыбнулся. Вновь убедился, что слишком часто бываю мягкотелым.
Машина остановилась перед Казанским кремлем, где находился Пересыльный пункт УИТЛ и К ТАССР.
Заскрежетал замок, открылась дверь, и послышались знакомые команды:
— Выходи! Руки назад! Не разговаривать! Быстрее!
На вахте отобрали вещи.
— Потом получите! — буркнул дежурный и обратился к молодой надзирательнице с круглым лицом, челкой и большими удивленными глазами.
— Отведите его в камеру! — Он показывал на меня.
— Идите! — сказала девушка. Мы поднялись по лестнице на второй этаж, а затем пошли по длинному коридору. Надзирательница остановилась у одной из дверей и открыла ее большим ключом.
В небольшой камере было темно. Я увидел смутные очертания нар, занятых спящими людьми, и устроился в углу. На меня никто не обращал внимания. Очень хотелось спать. Я снял сапоги, положил их под голову, накрылся телогрейкой и лег на правый бок.
— Эй, новенький, пора вставать! Сейчас принесут кипяток,— разбудил меня кто-то ближе к утру.
В камере уже было светло, и около параши стояла очередь, чтобы помыться. Я тоже пристроился. Мне было не до разговоров, и я лишь односложно отвечал на вопросы, которые мне задавали. Я думал о предстоящем суде.
Вскоре принесли хлеб и кипяток. Я едва успел позавтракать, как вызвали на вахту. Кроме меня там был еще один заключенный — парень лет двадцати с плутоватой физиономией. По всем признакам мелкий воришка.
— Руки назад! — приказал дежурный по тюрьме и вытащил из стола блестящие стальные наручники.
Холодный металл плотно охватил мою правую кисть. Другую половину надели на левую руку молодого вора.
Так, связанные вместе, провожаемые любопытными взглядами прохожих, мы шли по улице Чернышевского в центре Казани. Люди, вероятно, подумали, что ведут убийц из-за угла, у которых не одна жизнь на совести. Тем более что три месяца я не брился и оброс.
В зале суда уже сидели Ванденко и несколько подальше Зайнап Аб-драхмановна. Меня посадили рядом с Николаем Павловичем. Я поздоровался с обоими. У Ванденко было виноватое выражение лица, и он криво улыбнулся. Зиганшина похудела и побледнела, но сидела прямо, с поднятой головой.
— Ну и подложил ты мне свинью,— шепнул я своему соседу.
— Я не виноват, поверь мне,— ответил он.
— Разговорчики! — предупредил кто-то из охраны, стоящей сзади нас. В зале появились зрители, заняли свои места судья, заседатели, защитники и прокурор.
Я стал изучать их лица. Вот судья, по лицу — русский, прокурор —
еврей, а защитники, кажется, татары. Целый интернационал. Конечно, все они придерживаются законов, определенных статьями, но любая статья «от и до»...
Сейчас, во время войны, вряд ли кто-нибудь из тех, которые должны были решить мою судьбу, симпатизировали немцам. И меньше всего, и не без основания — евреи. Поэтому я не ждал ничего хорошего, особенно от прокурора.
И вот начался суд. Как обычно, обвиняемым задавали стандартные вопросы: доверяют ли они суду, фамилию, имя, отчество, год рождения, был ли судим...
Главной фигурой в этом процессе оказалась Зиганшина, которая действовала самостоятельно и не была связана ни с Ванденко, ни со мной.
По сценарию, автором которого был наш опер, шло действие спектакля, а «Мойша», как главный режиссер, руководил «актерами». В данном случае «больными», которые по его же совету направили своих родственников к Зиганшиной за помощью. В знак благодарности они рассчитывались деньгами и подарками.
На суде не упоминали имя «Мойши», и никому не пришла в голову мысль задать вопрос — кто же подсказал идею обратиться к Зиганшиной.
Все было заранее известно оперу — кто посещал квартиру Зайнап Абдрахмановны, когда, сколько она получила за «услуги», и кого она госпитализировала.
Так же ловко на крючок попался и Ванденко. Что касается меня, то это была целиком вина Николая Павловича, которого никто не тянул за язык. Он от страха проболтался.
Никто из нас не отрицал факт взятки, лишь я, в свое оправдание сказал, что получил ее против своей воли.
Мне показалось тогда, что моя вина в этом деле не очень большая, пока не выступил прокурор.
Он начал издалека. Говорил о том, что идет жесточайшая война, которую не знала история, что люди, не щадя жизни, сражаются на фронте или же выполняют свой долг в тылу, отдавая все силы, чтобы приблизить день полного разгрома врага.
После такого предисловия прокурор обрушился на нас, обвиняя во всех смертных грехах. Он говорил о том, что мы злонамеренно пытались освободить от заслуженного наказания закоренелых преступников, что следует рассматривать сейчас, в военное время, как вредительство. Прокурор напоминал о том, что Ванденко осужден по статье 58, а я как социально вредный элемент и видел в этом причину наших преступных действий.
О Зиганшиной он говорил меньше всего и акцентировал свое внимание на Ванденко и на мне. В своей пространной речи он цитировал показания Николая Павловича, который во время допроса рассказывал, что я якобы советовал «больным» употреблять побольше соли и воды, чтобы вызвать искусственные отеки и этим подтвердить диагноз сердечно-сосудистого или почечного заболевания.
— Такого врача, который вместо лечения рекомендует наносить своему здоровью вред, следует лишить звания врача,— закончил он.
Для меня он предложил довести срок наказания до десяти лет, так же как и Ванденко, а Зиганшину осудить сроком на пять лет.
Мне показалось, что я ослышался. Оказывается, Ванденко был не только трусом, но и подлецом, готовым продать кого угодно, ради своей выгоды.
— Не ожидал от тебя такого гнусного поступка,— шепнул я Ванденко.
— Понимаешь, я не хотел,— оправдывался он.— Меня заставили.
— Тогда вот что: в последнем слове ты должен отрицать это выдуманное обвинение, что я рекомендовал больным пить солевой раствор. Говори, что тебя заставили писать эту ложь во время допроса. Мне нечего терять, если прибавят пять-семь лет. Тогда рассчитаюсь с тобой. Если я тебя не найду, найдут другие. Будет тебе крышка.
— Хорошо, сделаю,— ответил он испуганно.
С нетерпением ждал выступления защитника, хотя мало надеялся, что это принесет мне пользу.
Защитник — молодой мужчина с типичным татарским лицом, говорил спокойным и очень уверенным голосом.
Он обращал главное внимание на тот факт, что Ванденко и я вообще не имели юридического права писать документы для актации и, по существу, ничего сами не могли решить по этому вопросу. Они выполняли лишь техническую сторону, т. е. заполняли формуляры. Подписывались не они, а вольнонаемные врачи.
Аргумент более чем убедительный. Касаясь меня, защитник говорил о моей молодости, а также о том, что мною руководили не корыстные побуждения, а сочувствие к пожилым, может быть, и не очень больным людям. Об этом говорит и та весьма незначительная сумма денег, которую я получил за эту «услугу».
Хуже обстояли дела у Ванденко и особенно у Зиганшиной. Они получили довольно солидные взятки более чем от десяти человек, но существовала между ними разница: Николай Павлович был заключенный, а Зайнап Абдрахмановна вольнонаемная.
Когда предоставили Зиганшиной последнее слово, то она мотивировала свой поступок тем, что думала не о себе, а, как мать, о благополучии дочери, которую очень любит.
— Я хотела, чтобы она росла здоровой, чтобы питалась получше и могла бы одеваться прилично.
Она точь-в-точь повторяла слова врача-фтизиатра Золотухиной, которую недавно судили также за взятки.
Ванденко сдержал слово и сознался, что под давлением был вынужден сказать неправду обо мне.
Когда я услышал эти слова, камень свалился с души. Главное, и опаснейшее обвинение было снято.
Мое выступление было очень короткое. Я повторил мысли, сказанные защитником, и сожалел о своем поступке.
Суд ненадолго удалился на совещание. Зиганшину осудили на пять лет, Ванденко прибавили три года, мне два.
Особых причин для радости не было, но могло быть значительно хуже. Большую роль сыграл защитник, который умело нейтрализовал прокурора.
В пересыльной тюрьме — Камера — Никола — Работаю врачом — Маврина — Мои обязанности — Мое питание — Инженеры — Отбирают зеков в армию — Картежники — Паня
После суда я больше не встречался с Николаем Павловичем и Зиганшиной. Меня снова отправили в пересыльный пункт и поместили в переполненную камеру.
Было уже поздно, электрический свет не горел, и я с трудом, ощупью нашел свободное место на полу. На вахте мне вернули рюкзак с моими пожитками, и я его решил сейчас использовать в качестве подушки.
Заснуть, однако, не пришлось. Я почувствовал, что кто-то очень осторожно пытался открыть кармашек, где лежали ложка, кружка и разная мелочь. Одновременно, с другой стороны, еще одна рука продвигалась к направлению заднего кармана моих брюк. Я сделал резкое движение, и руки исчезли, но не надолго. Так повторилось несколько раз. Наконец, я вышел из терпения, вытащил рюкзак из-под головы и сел, обхватив его руками, но это, к сожалению, тоже не помогло. О сне нечего было и думать.
Вновь несколько рук, словно щупальца огромного спрута, протянулись ко мне, чтобы проверить мое имущество... Все это происходило при полнейшей тишине.
И вдруг я услышал очень грубый и хриплый голос, который показался мне знакомым.
— Это кто там пришел?
— Врач из Казлага,— ответил я.
— Подожди, не ты ли Генри?
— Тот самый.
— Ты что, на полу сидишь?
— Да.
— Залезай сюда на нары ко мне. Сейчас освободим тебе место.— Дальше я услышал возню на нарах и ругань.
— Мотайся, пока цел,— приказал хриплый голос. Потом кто-то грохнулся на пол.
Я кое-как пробрался сквозь лежащие тела и занял специально для меня освобожденное место на нарах, рядом с моим покровителем. Им оказался вор-рецидивист Никола, которому я когда-то очень помог, освободив его Маруху от этапа.
Утром, когда все уже проснулись, и в камере стало светло, Никола обратился с короткой речью к присутствующим.
Он показал на меня рукой и сказал:
— Чтобы вы все знали — это лучший врач. Он меня недавно здорово выручил. Кто его тронет пальцем, будет иметь дело со мной. Поняли?
— Поняли, — послышались голоса.
— Ну вот, это другое дело.
Принесли кипяток и несколько позже хлеб. Никола оставался на месте, в то время как остальные образовали очередь. Услужливая рука выбрала для него лучшую пайку, наполнила большую эмалированную кружку кипятком.
Никола сидел по пояс голый, по-восточному, как паша, на нарах и зорким глазом следил за порядком. Он был крепко сложен и хорошо упитан. Отчетливо выступали мышцы груди и плеч. Никола, видимо, не страдал от недоедания и, безусловно, имел дополнительные источники питания. На тюремных харчах такие фигуры не сохраняются.
Он разрезал самодельным ножом хлеб на небольшие ломтики и поставил передо мной кружку с маслом и медом.
— Бери!
Мед оказался очень вкусным и весьма кстати. После трех месяцев голодного пайка эта пища показалась мне райской.
После завтрака Никола вытащил откуда-то колоду самодельных карт и маленькую подушку. На нары поднялись еще трое урок, и началась игра. Я карты не люблю, и отказался от участия.
Пока шла игра, постоянно, по очереди, подручные Николы стояли на «стреме» и слушали, не идет ли коридорный. За игру в карты полагался карцер.
Во второй половине дня одного из заключенных вызвали в коридор. Несколькими минутами позже он вернулся в камеру, держа в руках большую раскрытую коробку. Это была передача-посылка от родных. Но лицо счастливчика, однако, не выражало особой радости и не без основания. Он подошел нерешительно к Николе и поставил перед ним коробку.
— Угощайся, Никола.
Вся его фигура, умоляющие глаза, трясущиеся руки напомнили мне кролика, который, парализованный страхом, двигается в раскрытую пасть питона.
Никола внимательно ознакомился с содержанием посылки, отсыпал себе в кисет немного махорки, срезал шматок сала, взял несколько сухарей, да еще граммов сто меда и вернул остальное.
Он был здесь единовластным хозяином, которому все обязаны были подчиняться. И любая передача сначала должна была пройти через его руки. Словно в таможне, он оставлял себе то, что считал нужным.
На этот раз Никола ограничился немногим, что вызвало явное удовольствие хозяина посылки. Он даже заулыбался.
После ужина Никола разлегся поудобнее на нарах, положив себе под голову подушку.
— Эй вы, фраера, кто расскажет интересный роман? — обратился он к камере.
Нашелся бледнолицый, худощавый паренек. Он присел к нам поближе на нары и, свесив ноги, довольно складно пересказал детектив, в котором были и любовь, и измена, и убийство.
Вся камера слушала внимательно, и урки на этот раз напоминали детей, которым старая бабушка рассказывает сказку.
— Молодец! — Никола остался довольным и вручил рассказчику кусок хлеба.
— Спасибо.— Парень заметно обрадовался и, недолго думая, тут же проглотил его.
На третий день пребывания в камере, после раздачи хлеба, меня вызвали в коридор с вещами.
— Куда это? — спросил я дежурного.
— В санчасть.
Неужели, подумал я, отправят в этап? В санчасти, точнее в приемной амбулатории, за столом сидела женщина лет сорока-сорока пяти в белом халате.
— Садитесь,— сказала она, указывая на стул напротив себя. Коричневые, умные глаза испытующе оглядывали меня с головы до ног, словно прощупывая. Лицо у женщины было простое, ничем не примечательное — одно из тех, которые быстро забываются. Но это было лицо человека интеллигентного.
Кажется, она осталась довольной. Мне почти всегда везло с женщинами-начальниками. Женщины всегда остаются женщинами, какие бы они должности ни занимали. А что касается меня, то чаще всего я пользовался у них успехом.
— Меня зовут Маврина Мария Леонтьевна,— сказала она просто.— Я начальник санчасти пересыльного пункта. Вас направили сюда на работу. Вот поэтому вас и вызвали. Вы не возражаете? — на ее лице появилась улыбка.
Я был удивлен. Впервые в местах заключения услышал подобный вопрос. До сих пор только приказывали.
— Что вы, что вы, меня это вполне устраивает,— ответил я.
В нескольких словах Мария Леонтьевна объяснила мне обязанности: обход камер, работа в стационаре, амбулаторный прием, проверка пищеблока, санпропускника...
Пересыльный пункт располагался в Казанском кремле и служил местом для формирования этапов,— своеобразной перевалочной базой. Сюда поступали в основном осужденные из городов и сел Татарии, которые ждали здесь свою дальнейшую участь, но иногда и представители других республик.
Как и всякая тюрьма, «пересылка» имела камеры для заключенных, в том числе и рабочих, санчасть, мастерские, кухню, баню и прачечную, несколько в сторонке прогулочный дворик и адмхозчасть...
Мне дали матрац, подушку и постельное белье, и я неплохо устроился в небольшой рабочей камере.
В этот же день познакомился со стационаром. Он был рассчитан
приблизительно на 25-30 человек и состоял из двух довольно мрачных больших палат. В одной из них в углу была устроена раздаточная — небольшой закуток, огороженный с двух сторон досками. Здесь стояли стол и скамейки.
В раздаточной принимали пищу из кухни, кушали и отдыхали медработники. Здесь же делали записи в историях болезни.
Больные мало отличались от тех, с которыми я имел дело в Казлаге: дистрофики, несколько человек с чесоткой и другими кожными заболеваниями, двое с воспалением легких, один «сердечник»...
И вот наступил мой первый рабочий день в «пересылке». В первую очередь я нанес визит кухне — самому притягательному объекту в этом заведении, где я должен был снять пробу.
Виктор — заведующий кухней, молодой человек лет двадцати восьми со стрижкой «бокс» и маленькими кавказскими усиками, встретил меня подобострастно. Он знал, что в этих местах судьба его во многом зависит и от врача.
Он вручил мне чисто вымытую ложку для снятия пробы, а затем изящным и ловким движением перемешал черпаком в котле гороховое пюре. Рядом с котлом красовались ярко-желтого цвета, с коричневым румянцем, большие аппетитные куски омлета, приготовленного из американского яичного порошка. Они предназначались стационарным больным.
Виктор отрезал маленький кусочек и подал мне. Пища была приготовлена вкусно, и я остался доволен. Затем он указал рукой на стол, расположенный в углу кухни, подальше от плит и любопытных глаз.
Здесь уже были приготовлены для меня жестяная миска, доверху наполненная гороховым пюре, и тарелочка с внушительным куском омлетa. Порции были солидные и не рассчитаны по количеству для простых заключенных. Они таких во сне не видели.
После голодных дней в следственном изоляторе эта пища казалась мне деликатесом.
После кухни я направился в амбулаторию, где должен был питаться. Там меня уже дожидалась «кровная» пайка и такой же обильный завтрак, как и на кухне. Без особого труда я справился с едой и, что удивительно, не ощутил особой сытости. Предстоял обход больных в стационаре, но перед этим меня снова накормили. Как и в бараке № 15, здесь всегда оставались пайки хлеба и прочая еда. Больные выписывались, умирали, а в таких случаях «яства» в первую очередь предлагали врачам.
Я не отказывался и, словно высохшая губка, впитывал в себя продукты питания.
Больные в стационаре не требовали больших знаний дифференциальной диагностики, и обход занимал не очень много времени.
Во время обхода меня сопровождала медсестра Лида (по паспорту Хая), которая записывала назначения.
Это была двадцатидвухлетняя, жирная и флегматичная девица, олицетворение лени и неряшливости. Она носила юбку выше колен, а нижнее
белье, не первой свежести, ниже колен. Главное удовольствие она получала от снятия проб в кухне и готова была полжизни отдать за головку чеснока или за фаршированную рыбу. Обладая отменным аппетитом, она могла есть целый день и, видимо, по этой причине у Хаи живот висел складками.
Она вела монашеский образ жизни, хотя очень любила парней. Бурные страсти, однако, пересилил страх угодить в карцер. А вообще это была добрая и безвредная особа.
Назначения, которые приходилось выполнять сестрам, были простые: подкожные инъекции камфары, кофеина и витаминов, внутривенные вливания глюкозы, банки, раздача медикаментов, перевязки...
После стационара предстоял обход камер, чтобы выявить больных и назначить лекарства. На этот раз меня сопровождала медсестра Нина — очень стройная молодая девушка лет двадцати со светло-русыми длинными волосами и серыми выразительными глазами.
Мое внимание привлекли ее ноги — очень мускулистые, с сильными икрами. Я подумал, что Нина спортсменка, может быть, занималась велосипедом, но, оказывается, она признавала лишь одно — танцы. Правда, и танцы развивают ноги. Была неравнодушна к военным, не ниже лейтенанта по званию, я в ее глазах не котировался.
Нина держала в руках ящик с отделениями-гнездами, в которых лежали лекарства — настойка йода, валериана, желудочные капли, ихтиолка, мазь от чесотки и лобковых вшей, перевязочный материал, градусник и разные порошки...
Нас сопровождал коридорный со связками ключей, который открывал и закрывал за нами камеры.
Первая камера оказалась этапной и была битком набита заключенными. Когда переступил порог, то сразу ощутил знакомый по Чистополю тяжелый воздух и неприятный запах немытых человеческих тел.
— Здравствуйте! — сказал я.
— Здравствуйте,— ответили мне нестройным хором.
— Кто из вас больной?
Около двери сразу выстроилась очередь из двадцати человек, жалких и худых. Каждый старался быть первым, и множество пар глаз с мольбой и надеждой смотрели на меня.
Слышались голоса:
— У меня понос.
— Меня знобит.
— Вот рука чешется.
— Посмотрите, у меня горло.
— Я ходить не могу.
Я стал осматривать больных, в то время как Нина измеряла температуру, делала перевязки, выдавала медикаменты.
И почти каждый второй, который обращался ко мне, просил жалостливым тоном:
— Доктор, пожалуйста, положите меня в больницу.
Больница была голубой мечтой всех больных и ослабленных, да и не только их. Здесь они могли лежать на постели, почти как дома и, главное, получали добавочное питание.
Я распоряжался их здоровьем и благополучием и вполне естественно, что они смотрели на меня как на своего спасителя.
Но мои возможности были весьма ограниченными, и госпитализировать я мог лишь самых тяжелых больных. И то далеко не всех из них из-за отсутствия мест в стационаре.
Было непросто из множества истощенных людей — ходячих теней — выбрать пять, шесть, семь человек, чтобы направить их на коечное лечение. Я стремился, по возможности, выбрать наиболее молодых из них, которые в жизни еще ничего не видели хорошего.
После обхода камер занимался санитарным состоянием тюрьмы и в первую очередь парикмахерской и баней.
Почти ежедневно в «пересылку» поступали заключенные и нередко целые этапы, их в первую очередь направляли на санобработку. Люди прибывали из разных мест, среди них часто попадались больные и за-вшивленные, и надо было следить, чтобы они все, как следует, помылись, а их вещи «прожарились».
После бани вновь прибывшие шли в амбулаторию на медосмотр, а затем распределялись по камерам.
Баня играла в условиях тюрьмы большую роль, и банщик считался престижной должностью. Он был первым, кто близко сталкивался с этап-никами, что давало ему возможность комбинировать или, точнее, спекулировать. Многие заключенные, особенно прибывшие из крупных городов, были сравнительно хорошо одеты, а те, которые находились в зонах оккупации, носили нередко добротные, короткие немецкие сапоги, английские френчи, плащ-палатки, шерстяные галифе и т. п. Все они прибывали голодными, долго сидели без табака и ради хлеба и махорки были готовы отдать любые шмотки.
Вот этим и пользовались банщики, которые заранее запасались хлебом и махоркой. Нередко, однако, их губила алчность, они теряли осторожность и, в конечном итоге, снимались с работы и отправлялись в этап.
Но баня была не только местом, где проводилась санобработка, она служила также своеобразным клубом, где встречались рабочие тюрьмы, придурки и безконвойные.
Здесь имелось множество различных помещений — предбанник, моечная, место для дезкамеры, прачечная, парикмахерская, входы и выходы — где создавались весьма благоприятные условия для свиданий с представительницами прекрасного пола.
Даже в случае неожиданной проверки можно было всегда незаметно улизнуть. На этом деле банщики также хорошо зарабатывали, предоставляя желающим укромное место и охраняя их.
В обед я снова отправился в кухню для снятия проб, а спустя полчаса еще раз принялся за еду в амбулатории, а затем в стационаре. То же
самое повторялось и во время ужина. В общей сложности я кормился девять раз в сутки, съедая при этом около шести литров супа, не считая каши, омлета и хлеба.
Никогда не предполагал, что в состоянии проглотить такое огромное количество пищи, да еще не ощущая при этом особой сытости. Видимо, организм жадно впитывал в себя все то, что потерял за последние три-четыре месяца. Все точь-в-точь повторилось как после чистопольской тюрьмы.
Лишь месяца через полтора я насытился, округлился и стал уже питаться как нормальный человек. Даже не съедал свою пайку и старался, накопив немного хлеба, разменять его на масло и мед.
Главной фигурой в «пересылке» (не считая вольнонаемных) был нарядчик дядя Женя. Нарядчики обычно имели внушительную внешность, т. к. эта должность нередко требовала применения физической силы. Заключенные, особенно урки, обычно не реагировали на дипломатические выражения, произнесенные изысканным литературным языком. На них действовал лишь трехэтажный мат или здоровенный кулак.
Дядя Женя был настоящим нарядчиком, ростом в 1м 90 см, широкоплечий, с волевым, мужественным лицом и сединой в висках. Он имел ранение и ходил, опираясь на палку. Этой же палкой он усмирял самых отчаянных уголовников-рецидивистов. Был он осужден по статье от седьмого августа на десять лет и отсидел уже больше половины срока.
В «пересылке» существовали различные службы, в т. ч. и мастерские, и задача нарядчика состояла в том, чтобы найти подходящую рабочую силу, начиная от уборщицы, парикмахера и поваров, кончая инженерами, врачами и обувщиками-модельщиками. Он мог задержать людей от этапа, направить по своему усмотрению в кухню, прачечную или больницу, или же, наоборот, в бухту Нагаева или на Колыму, конечно, согласуя этот вопрос с тюремным начальством. И, вполне естественно, следил за тем, чтобы все работали прилежно.
Дядя Женя, как его все именовали, часто консультировался со мной, когда надо было устроить кого-нибудь в пищеблок, баню или отправить в этап, и у нас сложились хорошие отношения.
— А вы еще не знакомы с инженерами? — спросил он меня однажды.
— С какими?
— С москвичами.
— Нет.
— Тогда познакомлю. Уверен, что вы найдете с ними общий язык. Интересный народ.
Их было трое. Все инженеры, все из Москвы и все осужденные по 58 статье. Они жили на втором этаже в отдельной камере, очень уютной и даже, можно сказать, с удобствами. В камере я увидел чисто заправленные койки, стол и стулья и даже цветы в вазе. На стене висела гитара.
Самому младшему из них, Борисову, было около тридцати двух лет, лысому Зигелю под сорок, а Николаеву, наиболее сдержанному и молчаливому, около пятидесяти.
Они что-то проектировали, занимались чертежами и при необходимости руководили ремонтом разных механизмов, которые имелись в «пересылке», от пишущей машинки до дезокамеры.
Когда я вошел в камеру, они как раз сидели за столом и пили чай с медом.
— Садитесь,— пригласил меня Зигель,— чай не фруктовый, а настоящий. Из Москвы.
— С удовольствием.
Инженеры оказались весьма приветливыми, и сидеть с ними было интересно. Много у нас было общего.
После чая Борисов снял гитару со стены и начал петь тюремные песни: «Не для меня придет весна, не для меня Дон разольется...» Голос был не очень сильный, но приятный, и я с удовольствием слушал его.
В это время кто-то несмело постучал в дверь.
— Заходите! — крикнул Зигель.
На пороге появилась молодая, очень миловидная девушка, лет двадцати, чисто одетая, с ведром и веником.
— Можно убирать? — спросила она тихим голосом и застенчиво опустила глаза с большими, темными ресницами. Она была коротко острижена, круглолицая, курносая, с пухлыми губками, и сразу вызвала к себе симпатию.
— Не надо Лидочка, у нас чисто,— ответил Борисов.— Лучше садись с нами чай пить.
— Мне сейчас нельзя. Спешу.
— Тогда приходи попозже.
— Хорошо,— ответила она и бросила, как мне показалось, нежный взгляд в сторону Борисова.
Когда девушка покинула камеру, Зигель спросил:
— Правда, славная девушка?
— Да, очень миловидная.
Как всегда в этих случаях разговор шел о войне и положении на фронтах. После разгрома 330-тысячной немецкой армии под Сталинградом, прорыва блокады Ленинграда и Курской битвы, никто уже не сомневался в поражении Германии и близком конце войны. Освободив в апреле 1944 года правобережную Украину и разгромив немцев под Ленинградом и Новгородом, части Советской армии достигли государственной границы. В мае был очищен Крым...
Пожалуй, не было никого среди заключенных, кто не мечтал бы о конце войны, которая для многих была причиной того, что они оказались за решеткой и колючей проволокой. И почти все, даже осужденные по 58 статье, желали поражения фашистской Германии. Это относилось и к лицам немецкой национальности. Правда, в начале войны немало из них, озлобленных несправедливым отношением к ним со стороны ответственных органов, ждали прихода немцев и своего освобождения из тюрьмы.
В 1942—43 гг. большинство из них после тюремных мытарств попали в колонии и лагеря, где условия были несколько лучше. Здесь они уже могли читать газеты, смотреть документальные фильмы, хронику о войне, да и встречаться с людьми, вернувшимися из плена и зон оккупации, и тогда их взгляды изменились.
Истребление евреев и цыган, нечеловеческое отношение к военнопленным и гражданскому населению, карательные отряды, Хатынь, Ли-дице и Орадур-сюр-Глан, печи Бухенвальда, Майданека и Освенцима... все это вместе заставило людей иначе смотреть на немецкую армию, да и вообще на фашистский режим. Это относилось и ко мне.
Да, о победе мечтали все заключенные, но многие из них задумывались при этом, и в первую очередь те, которых можно было назвать «политическими».
То, что творилось в нашей стране, нередко напоминало Германию тех лет: переполненные тюрьмы, бесчисленные колонии и лагеря, незаконные аресты, пресловутые «тройки» и Особое совещание, сотни тысяч невинно расстрелянных... Но были уничтожены не враги, а лучшие люди — те, кто боролся за Советскую власть и создавал ее. Именно в этом заключался трагизм.
Победа над фашизмом возвысит Сталина еще больше в глазах людей, укрепит его власть, создаст ему ореол непогрешимости, а это означает, что все будет по-старому. Остается и пресловутая теория о том, что чем больше успехи социализма, тем ожесточеннее будет сопротивление классового врага, и вновь будут аресты и аресты.
Вот если бы стоял во главе нашего государства другой человек, например С. М. Киров, тогда было бы по-другому.
Однажды меня вызвали после обеда в амбулаторию. В середине приемной сидел на табуретке странноватый мужчина, невероятно грязный, с длинными растрепанными волосами, обросший, который распространял вокруг себя запах навоза.
На нем были только кальсоны, остальная одежда лежала рядом, на полу. Вокруг него стояли начальник тюрьмы, Мария Леонтьевна, какие-то вольнонаемные, парикмахер и санитарка с веником.
— Это дезертир,— объяснила мне Маврина.— Полтора года он скрывался в лесу и ни разу не мылся и не стригся. А посмотрите, сколько у него вшей.— Она указала рукой на грязное белье, которое словно мукой было обсыпано вшами
— Отнесите вещи банщику и скажите ему, чтобы их сожгли. И сразу вернитесь,— приказала она санитарке.
— А вы,— кивнула она головой парикмахеру,— стригите его. Парикмахер, состроив брезгливую гримасу, взялся за работу. Ножницы сразу окрасились кровью, и вши, как из рога изобилия, посыпались на пол. Санитарке пришлось их веником подметать в кучу, чтобы они не расползались.
Когда парикмахер закончил работу, все ахнули — голова дезертира наподобие шапки была покрыта толстым слоем вшей, которые распо-
лагались друг на друге и копошились, напоминая растревоженных муравьев.
Двое из вольнонаемных быстро покинули помещение — их едва не стошнило.
— Как он только терпел? — слышались удивленные голоса. Дезертир, однако, ни на что не реагировал и сидел спокойно и безучастно. По тупому выражению лица можно было сделать вывод, что это был дебил.
Я посмотрел на его голову: кожа была местами изъедена, и имела кроваво-красную окраску.
— Отведите его в баню,— приказала Мария Леонтьевна санитарке.— Дайте ему мыло «К» и следите за санобработкой.
Когда дезертира увели, и начальство покинуло амбулаторию, Маврина предупредила меня:
— Завтра придет комиссия. Проследите, пожалуйста, за санитарным состоянием помещений.
— Хорошо. Она будет проверять больных и истории болезней?
— Нет. У нее другая задача. Она должна подбирать людей для армии. Но это касается лишь «бытовиков» с небольшими сроками. Конечно не с 58 статьей.
На следующий день в амбулатории появилась группа военных и среди них одна женщина. Я сразу встал, как положено, ожидая дальнейших распоряжений.
На меня, однако, не обращали внимания. Один из военных, покрупнее и дороднее, видимо, главное лицо, внимательно оглядел помещение, а затем обратился к Мавриной:
— Здесь тесновато. Мое предложение — будем их осматривать во дворе
— Хорошо.
Заключенных выстроили в один ряд, человек по сорок, как на параде, а затем комиссия, не спеша, обходила строй.
Каждого окидывали оценивающим взглядом, ощупывали, как цыган кобылу, смотрели в рот, и приказывали спустить штаны. Картина невольничьего рынка, знакомая по Чистополю.
Заключенные старались принять бравый вид, выпячивали грудь колесом, втягивали живот, да еще пытались демонстрировать жалкие бицепсы.
Один из них ударил себя кулаком по груди, желая показать свою молодецкую силу, но при этом зашатался и едва не потерял равновесие.
Большинство оказалось годными и даже кое-кто из дистрофиков.
— Подкормим,— высказался один из членов комиссии.— Были б кости, а мясо нарастет.
Во время обхода камер я заметил, что такие тяжелые дистрофики как в Казлаге и Чистополе здесь встречались значительно реже. С питанием, видимо, стало лучше, в том числе и в местах заключения. Однако дистрофики были. Но далеко не всегда виновато было скверное питание.
Нередко заключенные отдавали свою пайку, да еще не одну, за шмотки или махорку, а затем попадали в стационар.
Существовала еще одна причина, чаще всего у уголовников — карты. Игра в карты запрещалась, но это никого не смущало.
Начальство время от времени проводило «шмоны», в надежде найти карты, ножи, карандаши и прочие запрещенные предметы, но редко добивалось успеха.
Рассказывали такой случай. Однажды дежурный во время обхода камер заметил, что четверо урок играли в карты, и быстро открыл дверь. Обыскали всех с пристрастием, дотошно, заставили раздеться догола, даже разрезали пайки хлеба на куски, но карты так и не нашли.
— Вот что, заключенные,— сказал дежурный,— если не отдадите карты, то всю камеру посажу на карцерный режим. На пять суток. Ясно?
— А если мы отдадим карты. Что тогда с нами будет? — спросил кто-то.
— На первый раз прощаю.
Тогда вышел вперед маленький, худенький паренек и сказал:
— Гражданин начальник, карты у вас в кармане.
— То есть, как в кармане? — дежурный от удивления вытаращил глаза и полез в задний карман брюк. Карты оказались там.
— Как они туда попали?
— Мы их сунули вам в карман, пока шел «шмон». Ну, а после «шмона» мы бы взяли их обратно.
— Ну и ловкачи,— только и мог сказать дежурный. В одной из камер, где в основном находились урки, я обратил внимание на двух очень худых и бледных малолеток, которые прямо-таки таяли на глазах.
— Наверно, проигрались в карты,— высказала свое мнение медсестра Нина, которая сопровождала меня во время обхода.
— А как узнать? — поинтересовался я.
— Очень просто. Я сейчас вызову из этой камеры двух больных в амбулаторию на перевязку — они мне скажут, в чем дело.
Вскоре Нина докладывала мне, что мальчишки действительно проиграли в карты свои пайки на несколько дней вперед и сейчас в буквальном смысле слова голодали.
— Что будем с ними делать? — спросил я.
— Покормим их сами.
— Не понимаю.
— Завтра увидите.
На следующее утро, во время раздачи хлеба, я пришел вместе с Ниной к камере, где находились молодые картежники.
Нина о чем-то пошепталась с коридорным, а затем, улыбнувшись, сказала:
— Сейчас будет спектакль.
Девушки-раздатчицы поставили перед камерой ящик с хлебом и открыли «кормушку».
— Две пайки оставьте,— предупредила их Нина.
Немного погодя надзиратель открыл дверь и вызвал малолеток в коридор. Нина дала каждому по пайке и приказала:
— Жрите! Пока хлеб не съедите, в камеру не пустим.
Ребята сначала отказывались, видимо, боясь расправы, а затем все-таки стали есть, обливаясь слезами.
В этот же день я поговорил с Марией Леонтьевной и добился, чтобы ребят перевели в другую камеру.
Медицинский персонал, который обслуживал тюрьму, состоял в основном из заключенных с небольшими сроками и часто менялся. Одни выходили на волю, другие приходили. И очень редко среди них попадались мужчины, что имело свои положительные и отрицательные стороны.
С мужчинами работалось легче. Они не капризничали, их настроение не менялось по несколько раз в день, и они не проливали слезы по пустякам.
С другой стороны, женщины создавали определенный уют, почти домашнюю обстановку, да и среди них были весьма привлекательные и к тому же чаще всего и доступные.
Здесь впервые я понял, насколько верна русская пословица: для милого дружка и сережка из ушка. За свою лагерную любовь (или тюремную) женщины, словно ослепленные, ни с чем не считаясь, шли на любой риск и были готовы отдать последнее. И страшно ревновали.
Уголовницы могли пустить в ход и холодное оружие, и другие средства против своих соперниц.
Если в Казлаге (ОЛП №1) я должен был опасаться рецидивистов и вести с ними дипломатическую игру, то в пересылке их место заняли женщины. Вскоре у меня произошло с ними первое столкновение.
Медсестра Паня за свои сорок лет неоднократно побывала в местах заключений и на воле выгодно совмещала медицину с воровством.
Это была полная женщина с дряблой кожей и морщинистым лицом, на котором красноречиво отпечатались следы бурно проведенной молодости.
Судя по одежде — грязной, видавшей виды серой кофте, рваной юбке и туфлям с истоптанными каблуками, она находилась сейчас в бедственном положении, что в военное время никого не удивляло. Люди за кусок хлеба и ведро картошки отдавали последнее.
Каким-то чудом она, однако, сохранила косметику и ходила с накрашенными губами и лицом, покрытым толстым слоем пудры, которое могло вызвать только отвращение.
Но работала Паня хорошо. Она принимала со мной больных в амбулатории, делала записи в журнале и выполняла назначения. И все это — быстро, ловко и со знанием дела.
Вечером Паня иногда пела блатные песни. Голос был приятный, и мы ее слушали всегда с большим удовольствием.
Во время приема больных у меня изредка были стычки с ними, и тогда Паня, как волчица, набрасывалась на них, используя все свое «красноречие». Изощренные ругательства приводили даже отпетых уркаганов в замешательство.
Создавалось впечатление, что она хочет взять шефство надо мной и быть покровительницей. Правда, я в этом не нуждался.
Вскоре у Пани появились новые туфли на высоком каблуке, шелковая, салатного цвета кофта и приличная, темно-синяя, прямая юбка.
Видимо, не без умысла она относилась с особой заботливостью к умирающим больным женщинам.
Паня еще ярче красила свои губы, распространяя вокруг себя назойливый запах дешевых духов «Маки».
Однажды после вечернего приема, когда мы с ней остались вдвоем в амбулатории, она мне сделала предложение.
— Как вы считаете: по-моему, очень трудно быть одному в таком возрасте как вы, да еще в тюрьме.
— Не очень легко,— ответил я, несколько удивленный этим вопросом
— Совсем другое дело, когда имеешь хорошего друга,— продолжала Паня,— вот тогда и тюрьма не кажется тюрьмой.
— Вполне возможно.
— А у вас есть сейчас близкий человек? Я имею в виду, здесь, в «пересылке»?
— Нет.
Паня сделала короткую паузу, поправила кофту, пригладила волосы, а затем бросила на меня кокетливый взгляд, словно ей не сорок лет, а восемнадцать.
— А мне кажется, что мы с вами были бы хорошей парой. Конечно, я немного старше вас, но какая в этом беда? Нам не венчаться... А вообще,— она посмотрела на меня многозначительно,— мы же с вами взрослые люди, и можно говорить обо всем открыто. Поверьте — я не уступаю двадцатилетней... жалеть не будете.
Я оторопел. Быть любовником этой развратной и истасканной женщины... я даже не знал вначале, что ей ответить. По натуре я деликатный человек, и поэтому не хотелось мне обидеть ее. А может быть, она была действительно влюблена в меня?
— Я вас хорошо понимаю,— ответил я после небольшого раздумья,— но мне кажется, что мы с вами и так в хороших отношениях.
Паня прервала меня.
— Я этого не отрицаю, но эти отношения товарищеские. А я предлагала вам быть друзьями, даже больше.
— Простите, я не хочу вас обидеть, но мне сейчас просто не до этого. Мои мысли заняты другими вопросами... вы должны меня понимать.
— Что там не понимать,— ответила она резким голосом и злыми глазами посмотрела на меня,— знаем вашего брата. Могли спокойно сказать, что у вас уже другая баба.
Она встала и, гордо подняв голову, покинула амбулаторию.
После этого разговора наши отношения заметно изменились и стали носить официальный характер. Мне показалось, что Паня начала следить за мной, и, видимо, этим не ограничивалась. Она, по-видимому, стала докладывать куда следует и в частности о моих симпатиях.
Достаточно было мне поговорить с какой-нибудь смазливенькой девчонкой два или три раза, и я мог быть уверен в том, что ее отправят с первым подходящим этапом подальше.
В холодном карцере — Указницы — Пасха — Аркадий — Немецкие военнопленные — Мавлия — Вера — Веденеева
Однажды я задержался вечером после отбоя в амбулатории и мирно беседовал с медсестрой Наташей — очень миловидной чувашкой с красными щечками и очаровательной улыбкой, которая была осуждена по указу за самовольный уход с предприятия.
Вдруг к нам забежала, запыхавшись, старая санитарка Фрося и предупредила:
— Беги, Наташенька, быстрее в стационар, сейчас придут сюда проверять. Ты же дежуришь там... Кто-то из наших стукнул, что вы здесь двое сидите после отбоя... и занимаетесь любовью.
Наташа сразу вскочила. Минуты через две-три пришел дежурный. Он посмотрел за шкафом, заглянул под кушетку и затем грозно спросил:
— С кем вы сидели сейчас здесь вдвоем? А может быть, не только сидели?
— Ни с кем,— ответил я.
— Нагло врете. Я же сам видел, что отсюда выбежала какая-то женщина.
— Ну и что дальше?
— Как, что дальше? Вы же только что сказали, что здесь никого не было.
— Я этого не говорил. Вы спросили меня, с кем я «сидел», а я ни с кем не «сидел». Приходила какая-то женщина, как вы говорили, и попросила вату. Я ей дал вату, и она ушла.
Дежурный от удивления не знал, что ответить. Немного подумав, он сказал:
— Меня не обманете. Пусть будет по-вашему, но что вы здесь делали после отбоя? Вас вызывали в амбулаторию? И что это была за женщина? Ну, что скажете? — Его лицо приняло злорадное выражение.
— Я проверял амбулаторный журнал. А кто была эта женщина, я не знаю. Вероятнее всего, она пришла из рабочей камеры.
— Вы проверяли амбулаторный журнал? Это полагается делать до отбоя. А женщину вы не знали? Вы, вероятно, думаете, что вам все дозволено и если здесь работаете врачом, то можете вести себя вызывающе. Не забудьте — вы, в первую очередь, заключенный. Найдем и на вас управу. А меня не считайте дураком.
После этих слов дежурный повернулся и покинул амбулаторию. На следующее утро после завтрака мне был прочитан приказ начальника тюрьмы: за нарушение режима меня наказывали пятью сутками карцера.
Карцер оказался небольшой сырой камерой размером три на три метра и без окон. Стены, пол и потолок были из бетона.
Меня заставили снять обувь, пиджак и пояс. Оставили только носки, брюки и рубашку. Перед тем как войти в камеру, надзиратель наполнил
большое ведро холодной водой и, словно в русской бане, облил им стены и пол.
Одного ведра оказалось маловато, и надзиратель пошел за другим. Смысл этой процедуры простой: сделать карцер как можно более влажным и холодным.
Мне показалось, что я попал в Арктику. О том, чтобы сесть или лечь на пол, не могло быть и речи. Даже когда стоял, пробирал холод.
Я начал ходить взад и вперед по маленькому помещению, а затем, чтобы согреться, стал подпрыгивать. День прошел мучительно. Ближе к вечеру я подыскал себе относительно сухой участок пола и сел на него, но ненадолго. Очень хотелось спать. Иногда засыпал на короткое время, но холод вскоре будил меня. Приходилось вставать и заниматься гимнастикой, и так почти до утра.
Утром пришел за мной надзиратель.
— Иди работать,— сказал он.— Вечером опять придешь сюда.
Оказывается, существует и карцерный режим «без отрыва от производства». Днем работай, а вечером — давай в карцер.
После приема, когда все вольнонаемные ушли по своим делам, я сказал санитарке Фросе, чтобы она меня закрыла в амбулатории, и лег спать на кушетку.
Еще две ночи пришлось провести в холодном карцере, а затем я был амнистирован, благодаря хлопотам Марии Леонтьевны.
Когда я встретил Паню после карцера, она чуть не со слезами бросилась мне на шею:
— Сволочи! Стукачи! — проклинала она тех, кто доносил на меня.
Позже, однако, я узнал о том, что именно Паня, а никто иной, посадила меня в карцер.
Паню скоро освободили и выпустили на волю. На прощание она подарила мне теплую шерстяную шаль, вероятнее всего, «трофейную». Не хотелось ее брать, но она умоляла:
— Не обижайте меня, пожалуйста, на прощание. Я же от чистого сердца. И простите меня...
Почти каждую неделю в «пересыльный пункт» прибывали этапы заключенных, чаще всего из Татарии — Мензелинска, Мамадыша, Елабу-ги, Чистополя...
В основном это были молодые девушки лет 18—20 из сельской местности, осужденные по указу за самовольный уход с производства. Мобилизованные на заводы, не выдержав тяжелых условий работы и быта, они убегали домой. Это бегство часто принимало массовый характер.
В «пересылке» формировались более крупные этапы, которые затем направлялись в разные точки страны.
В тот памятный день прибыла авторитетная комиссия из НКВД, которая должна была отобрать из вновь прибывших «указниц» девушек, годных для лесных работ в ИТК-7.
В приемной за столом сидел толстый майор, накинув халат на китель, а рядом с ним начальник санчасти Мария Леонтьевна. У окна устроились
на табуретках двое военных, а я стоял несколько в сторонке от них, ожидая приказов высокого начальства.
«Указниц», прибывших из разных районов Татарии, было более ста. Майор обратился ко мне с приказом, чтобы все девушки явились на осмотр совершенно нагие, что меня удивило. Заключенных обычно обследовали раздетыми до пояса, и лишь при подозрении на дистрофию они должны были обнажить ягодицы.
Для деревенских и очень целомудренных татарских девушек раздеться перед мужчинами было хуже самой изощренной пытки. Они входили в комнату с пунцовыми от стыда лицами, пытаясь прикрыться руками. Девушки чаще всего были небольшого роста, но крепко сложены, с толстыми иссиня-черными косами. Много миловидных.
Майор не спешил с осмотром, заставлял каждую из них поворачиваться то в одну, то в другую сторону и даже не удосуживался проверить сердце и легкие. Создавалось впечатление, что его больше всего интересовали лишь чисто женские части тела. И остальные военные с видимым наслаждением созерцали этот своеобразный тюремный стриптиз.
Почти все девушки оказались здоровыми, и в их карточки была вписана аббревиатура ТФТ — тяжелый физический труд. Днем позже все они были направлены в ИТК-7, и вскоре я забыл о них.
Месяца через четыре Мария Леонтьевна вызвала меня в свой кабинет и сказала:
— Вот что, доктор, прошу вас освободить как можно больше мест в стационаре. Сегодня придет к нам этап из седьмой колонии, среди которых много дистрофиков. Они нуждаются в коечном лечении. Им необходимо помочь. Вам понятно?
— Конечно.
Мой стационар был, как раз, не очень загружен, и я мог без особого труда приготовить около двадцати коек.
После обеда прибыл этап и снова — одни девушки-указницы. Самых тяжелых больных принесли на носилках.
Впервые после Чистополя и Казлага я встретил таких истощенных людей. Я никогда до этого не видел подобных женщин-дистрофиков. Обычно у женщин, у которых больше жировых запасов, чем у мужчин, даже у худых, сохраняется еще некоторая округлость форм. Эти же представляли собой высушенные анатомические препараты, скелеты, обтянутые сухой, шершавой кожей, со впалыми щеками и заостренными чертами лица.
Груди напоминали пустые кошелки, ягодицы свисали складками, ребра можно было считать. Это были тени, а не люди, они едва держались на ногах.
Я ужаснулся, когда узнал, что это те самые молодые татарские девчата, которые еще не так давно были направлены отсюда в седьмую колонию.
Не все из них возвратились обратно в «пересылку», часть навсегда осталась лежать в земле Марийской. Двадцать пять из прибывших я сра-
зу госпитализировал. Пришлось для них приготовить дополнительные кушетки.
Одна из девушек, совсем еще молоденькая, с большими темными и печальными глазами и детским, симпатичным личиком, рассказывала мне о своей судьбе, с трудом подбирая русские слова.
— Я из Мензелинска. Там пошла в школу. Потом меня послала на завод. Много девушек послала. И моя подруга. Ой, была плохо на завод. Очень плохо. Кормила плоха, а работа тяжело. И в комнате холодно, очень холодна. Подруга моя говорит: айда, Минзифа, пойдем домой. Там лучше. Здесь умрем. Я говорю якши, я тоже хочу домой. Дома была только два дня. Потом пришла милиция. И мне дали пять лет.
— Ну, а как было в седьмой колонии? Почему вы так истощали?
— Ой, там была очень, очень плохо. Послали на лесоповал. А снег была много. А валенки нет у меня. И у других нет. И плохо кормили. Одна вода. Вот придут начальники в кухня, а там варят суп. Для нас. И кашу. Вот они берут все хорошая, горох, картошка, а нам вода. И каша они кушают наша, а потом туда наливают вода. И мы получаем жидкая каша. Очень мало. И хлеб плохой. Как глина. Тяжелый. А работа тяжелая. Лес. Надо пилить, очень много, а барак холодная. А сила нет...
Сотрудники колонии, не стесняясь, обворовывали несчастных девушек, как только могли, и жили за их счет. А лесоповал — тяжелая работа и неудивительно, что девушки быстро превратились в доходяг.
Появились больные и с каждым днем все больше и больше. Вскоре начали умирать, одна, две, ...пять, десять, двадцать... Прошло еще несколько времени и половина из прибывших не могли передвигать ноги. Вот тогда начальство и решило послать девушек обратно. Они в таких работягах не нуждались. Тюрьмы были полны заключенными — хватало дешевой рабочей силы.
Наступила пасха, и инженеры пригласили меня к себе. В камере стол был празднично накрыт, и я видел не только аккуратно нарезанные куски черного хлеба, тарелки с омлетом, квашеную капусту, масло с медом и пасху, но также и две бутылки с темно-красной жидкостью. Были, конечно, и крашеные яйца.
— А что это такое? — спросил я, показывая рукой в сторону бутылок.
— Вишневая настойка,— ответил Зигель.
— Настойка? В тюрьме? Как она попала сюда?
— Очень просто. Не забудь, что мы инженеры, а я к тому же — химик. В кухне взяли свеклу и сделали небольшой перегонный аппарат. Кое-что еще прибавили и в конечном итоге получили спирт. Добавили банку вишневого варенья и больше ничего.
Вишневая настойка была очень вкусная и заметно подняла наше настроение. Борисов взял свою гитару, и мы начали петь старинные тюремные песни:
— Не для меня цветет весна, не для меня Дон разольется,
А сердце бедное забьется восторгом чувств не для меня...
— Течет речка, да по песочку, бережочек моет,
А казак молодой, казак молодой начальничка просит:
Ты начальничек, ты начальничек, отпусти до дому,
Жена скучилась, жена ссучилась и ушла к другому.
Рад бы рад был бы, отпустил бы, но боюсь не придешь,
Ты напейся водой холодною, про любовь забудешь...
Кроме меня и инженеров здесь присутствовала только Лида. Она сидела с красными от настойки щечками и смотрела с восторженным выражением лица на Борисова. Как и положено, в этот праздник «христосовались» и все, конечно, с особым удовольствием целовались с миловидной девушкой.
Ближе к вечеру, когда бутылки были опорожнены, и стол опустел, я встал и направился в амбулаторию. Моему примеру последовали также Зигель и Николаев, у которых были какие-то «неотложные» дела. Остались в камере только Борисов и Лида, которые после нашего ухода предусмотрительно закрыли дверь изнутри...
Моим помощником в больнице был фельдшер Аркадий — молодой человек довольно приятной наружности, которого природа, однако, обидела в росте. Работал он хорошо, был аккуратным и исполнительным, но слишком большое внимание уделял женщинам и спирту.
Когда ему выдавали спирт для разных процедур, он сначала снимал с него пробу, а затем добавлял в него воду. Эта процедура повторялась часто, пока спиритус ректификатус не превращался в аква дестиллата.
Медсестры, конечно, возмущались, особенно когда ставили банки. Спирт не горел.
После снятия пробы Аркадий становился легкомысленным и начинал охоту на представительниц прекрасного пола. Он не обращал внимания на уговоры и угрозы и успокаивался лишь тогда, когда добивался своей цели.
Он, однако, пользовался успехом. Может быть потому, что играл на домре, обладал еще хорошим голосом и был к тому же галантным кавалером.
Но однажды случился большой конфуз, который многим испортил настроение. В условиях «пересылки» существовал лишь один способ чтобы забыться — женщины. Но он был доступен лишь «придуркам», которые могли свободно передвигаться в пределах тюрьмы.
Местом свиданий в основном служила баня, которая имела ряд подсобных помещений, мастерские, а для медицинских работников изредка и амбулатория. Последняя, однако, была далеко не безопасна, т. к. сюда довольно часто наведывались надзиратели и прочие сотрудники тюрьмы.
Тогда у Аркадия появилась идея «организовать» интимные встречи в кабинете начальника санчасти Марии Леонтьевны.
Перед тем как уйти домой, Маврина всегда оставляла ключ от своего кабинета санитарке, а та, в свою очередь, после уборки передавала его дежурной сестре. Последняя весьма охотно одалживала ключ, т. к. сама была заинтересована в том, чтобы иметь надежную комнату свиданий.
Но Мария Леонтьевна, видимо, заметила, что после ее ухода обстаовка в кабинете странным образом менялась, и больше ключ не оставляла.
Тогда Аркадий попросил знакомых слесарей сделать ключ для кабинета, обещая за это стакан спирта. Слесари — специалисты своего дела (один из них был «медвежатником») — быстро выполнили заказ, и путь в кабинет был вновь открыт.
В один из вечеров Аркадий, сняв пробу с только что полученной бутылки спирта, направился в заветный кабинет. На этот раз с медсестрой Олимпиадой, высокой, рыхлой девушкой с копной темно-русых волос, которая сидела за квартирную кражу.
Несмотря на не очень привлекательную внешность. Липа пользовалась успехом. Она любила многих и почти в каждой камере имела «вздыхателя», с которым обменивалась записками.
В кабинете начальника санчасти кроме письменного стола стоял узкий диван, аккуратно застланный тонким байковым одеялом. У изголовья лежала небольшая подушка.
Был такой уговор: не включать свет, ничего не трогать и не пользоваться диваном. Тем, которые привыкли к «комфорту», предлагалось прийти сюда со своей подушкой и одеялом.
Не знаю почему, но на этот раз Аркадий отправился с пустыми руками. Вероятнее всего, он спешил и не нашел нужным соблюдать «технику безопасности».
На следующее утро Мария Леонтьевна вызвала меня в свой кабинет.
— Вот полюбуйтесь,— сказала она сердитым тоном, показывая рукой в сторону письменного стола.
Я обомлел — на нем лежала цветастая подушка. Прямо рядом с письменным прибором.
— А это что? Взгляните на диван!
В углу его я увидел скомканное одеяло.
— Как вы это объясните? — Она испытующе смотрела на меня.
— Может быть, перед вашим уходом санитарка не успела сделать уборку?
— Когда я пошла домой, все было на своем месте.
— Выходит, кто-то был в вашем кабинете.
— Выходит так. Но вопрос другой: как он попал в мой кабинет?
— Видимо, вы забыли закрыть его на ключ.
— Я дверь закрыла.
— Тогда просто не знаю, что вам ответить.
— Зато я знаю, как подушка попала на письменный стол. Мой кабинет превратили в комнату свиданий и к тому же пользовались чужим ключом. Не знаю только, чьих это рук дело? Может быть вы в курсе?
— Нет. Даже не знаю, кого подозревать.
— Ваша тактика мне понятна. Своих, конечно, не выдадите. А может быть, сами пользовались кабинетом?
На этот раз ее лицо приняло лукавое выражение. Я решил отмалчиваться.
— Ничего, дорогой доктор, и без вас найду концы. А сейчас займитесь своими делами. И будьте осторожнее. Один раз я вас уже вытащила из карцера, второй раз это вряд ли удастся сделать...
Мария Леонтьевна вскоре, действительно, нашла «концы». Сначала взялась за санитарок, а затем за медсестер. Допрашивала одну за другой и, конечно, нашлись слабохарактерные, которые к тому же дорожили своим местом и не мечтали о дальнем этапе.
Аркадий был вызван в кабинет, и там ему как следует «намыли» голову. И, конечно, ему пришлось расстаться с ключом.
— Не вздумайте заказать еще один ключ, если хотите остаться здесь, в Казани,— предупредила Мария Леонтьевна.
Аркадий отделался легким испугом лишь благодаря тому, что наша начальница в душе жалела заключенных.
Вскоре, однако, он нашел выход из создавшегося положения. В коридоре, ведущем в амбулаторию, имелся склад для дезсредств, где стояли бочки с хлорной известью, коробки с мылом «К», карболка и т. п. Здесь было, правда, несколько тесновато, но Аркадий переставил ящики и бочки таким образом, чтобы освободить небольшой участок.
Единственное — Мария Леонтьевна стала выражать свое удивление тем обстоятельством, что от некоторых медработников в амбулатории стало сильно пахнуть карболкой и хлоркой.
Осенью 1944 г. в тюрьму привели несколько военнопленных, которые в основном находились под следствием. Один из них в звании полковника поступил с диагнозом «реактивная депрессия» и, видимо, должен был пройти экспертизу в психиатрической клинике. К тому времени мы уже знали о том, что творилось в концентрационных лагерях: Бухенвальде, Освенциме, Майданеке и др., и как относились фашисты к населению оккупационных зон. И вполне естественно, хотелось бы взглянуть на представителей вермахта, особенно принадлежащих к офицерскому составу, т. е. тех, которые, возможно, давали приказы сжигать деревни и прочие населенные пункты и были виновниками геноцида.
Полковник попал в плен где-то под Сталинградом. Он сидел передо мной, ссутулившись, бледный, с отсутствующим взглядом.
— Конец,— сказал он и схватился за голову.
— Какой конец? — спросил я удивленно.
— Мне конец, раз попал в плен.
— Почему? Пленных, по-моему, здесь не убивают?
— Вы не правы. Есть приказ советского командования отрезать половые органы у всех военнопленных.
— Что?! Откуда вы это взяли?
— Мне это сообщили по секрету, и это точно.— Полковник закрыл руками лицо и застонал.
Дальше не имело смысла беседовать с этим представителем вермахта.
Несколько позже в тюрьму привели еще одного военнопленного, который, как и положено всем, сначала проходил медосмотр у меня. В его личном деле было указано, что он находится под следствием.
Он представился:
— Полковник Гюнтер Трибукайт.
Это был стройный мужчина, выше среднего роста, с интеллигентным лицом. С ним я имел возможность вести довольно частые и продолжительные беседы.
Он рассказывал о себе и своей семье, и как ему однажды пришлось быть акушером и принимать роды у собственной жены.
Жил он в Восточной Пруссии, а фамилия его литовского происхождения.
— Плохие мои дела,— поделился он со мной,— и больше всего я боюсь, что меня могут выдать югославским властям. Я даже готов служить в Советской Армии, если мне разрешат.
— А почему вас могут выдать югославам? — поинтересовался я.
— Дело вот в чем,— объяснил он.— Я был комендантом Каттаро, очень живописного портового города на побережье Монтенегро (Черногории). Однажды мы взяли в плен югославского партизанского генерала, и вот когда мы его везли ночью на пароходе, он спрыгнул в воду и благополучно достиг берега.
Чтобы поймать его, я отдал распоряжение перекрыть все дороги и стрелять в каждого, кто не останавливается по приказу «стой» и пытается убежать.
Тогда было убито много людей, в том числе и этот партизанский генерал. Сейчас вам, наверно, понятно, почему я не хочу попасть в руки югославов. Мне не простят эту акцию.
Трибукайт находился лишь несколько дней в «пересылке», а затем мы простились с ним.
Года через два, когда я находился в ИТК № 1 Марийской АССР, мне попал случайно в руки обрывок газеты, где прочел о судебном процессе над нацистскими преступниками, или в Скопле, или в Сараево. Там шел разговор о том, что немцы взорвали церковь, в которой находились люди. Среди приговоренных к смерти через повешение я прочел фамилию полковника Трибукайта.
Вот тогда я и понял, что люди, у которых руки в крови, могут быть красивыми, обходительными и интеллигентными. Они могут быть отличными мужьями, заботливыми отцами, заниматься музыкой, интересоваться литературой и балетом...
Совсем не обязательно, чтобы они имели низкий лоб и оттопыренные уши, тонкие губы и хищный нос, бульдожью челюсть, влажные руки и гнилые зубы... как их часто изображают в кинокартинах.
Последние военнопленные, с которыми я встретился в «пересылке», были генерал-майор «люфтваффе» Артур Низен и один румынский полковник.
Артур Низен, 1913 г. рождения, из Гамбурга — один из самых молодых генералов фашистской армии, был взят в плен около Сталинграда.
Это был очень высокий, стройный мужчина, одетый в военную форму, однако, без знаков отличия, не считая узких, серебристых погон. У него сильно заболел зуб, и наш зубной врач — молодая, весьма привлекательная женщина — немного растерялась.
Если в то время люто ненавидели все немецкое, тем более представителей фашистской армии, то легко понять молодую женщину. Однако она взяла себя в руки и вырвала больной зуб. Правда, без новокаина. Его в тот момент не было. Генералы тоже чувствуют боль, и Артур Низен вскрикнул.
Каким пайком генерал пользовался в дороге, мне было неизвестно, но он прибыл в тюрьму весьма голодным. Я выручил его буханкой хлеба, которую он принял с большой благодарностью, словно королевский подарок. Да, голоду подчиняются все. Он не признает чины и занимаемую должность. Для него все люди равны.
Во время прогулки генерал рассказывал мне, сколько сбил самолетов (больше полсотни), и ругал румын, которые, по его словам, подвели немцев во время Сталинградской битвы.
А перед прощанием он сообщил мне по секрету один адрес, где спрятан клад: серебряные монеты, церковная утварь, иконы и прочие ценности — Верхняя Ельшанка (около Сталинграда), Комендантенштрассе, в доме фрау Гинце.
Работать приходилось очень много, и я крутился с утра до вечера, как белка в колесе. Обход больных, амбулаторный прием, обход камер, проверка пищеблока и бани, прием и отправление этапов, да еще заполнение историй болезней... все это отнимало много времени.
Мария Леонтьевна мало помогала. Она по существу занималась лишь проверкой моей «деятельности», а также и всех остальных медработников. Остальное время она сидела в своем кабинете или же в амбулатории, где беседовала со мной или со своей помощницей — белокурой вольнонаемной фельдшерицей, которая в основном ограничивалась надзором за пищеблоком.
У обеих мужья находились в действующей армии, и мое начальство часто обсуждало их письма.
Близился конец войны, и все к этому мысленно готовились и, конечно, в первую очередь к встрече со своими близкими. Правда, далеко не всем было суждено увидеть своих родных, которые сражались на фронте. Очень многие из них погибли.
Но Марии Леонтьевне и фельдшерице повезло. Пока их мужья еще были живы и здоровы.
Если Маврина могла честно смотреть своему мужу в глаза, то миловидную фельдшерицу мучили угрызения совести. А, возможно, и нет. Она просто должна была перестраиваться и готовиться к смене партнера.
Но одно следует сказать: обе относились весьма корректно и доброжелательно не только ко мне, но также и ко всем остальным медработникам. Да, пожалуй, и к заключенным вообще. У меня создалось впечатление, что они всерьез не принимали те обвинения, которые мне предъявили и смеялись, когда я представился как «социально вредный элемент».
Если в Таганке и Чистополе осужденные по 58 статье сидели отдельно от уголовников, то в «пересылке» они находились вместе. Я, однако, не помню, чтобы уголовники обзывали «политических» «контриками» или «врагами народа», вероятнее всего, они также убедились в том, что по существу все эти люди сидели ни за что...
В «пересылку» постоянно прибывали заключенные, из которых формировались этапы. И всегда кого-то отсеивали и чаще всего дистрофиков и лиц с тяжелыми хроническими заболеваниями. Нередко здесь умирали люди. Правда, значительно меньше, чем в Чистополе и Казлаге. За год, однако, их набиралось свыше трехсот человек.
Меня часто будили и ночью, чтобы принимать больных или оказать первую медицинскую помощь. Встречались и раненые, чаще всего уголовники, которые в драке наносили друг другу ножевые ранения или же самому себе, чтобы избежать этапа.
Однажды ко мне привезли здоровенного урку, который самодельным ножом распорол себе живот. Рана была большая, но как всегда в этих случаях, она не задевала брюшную полость. Уголовники знают, как поступать в этом случае и берут кожную складку в руку, перед тем как сделать разрез.
Хирургических игл у меня не было и пришлось использовать швейные, которые никак не хотели прокалывать толстую кожу и подкожную клетчатку. Лишь с великим трудом я зашил рану и мог лишь удивляться терпению уркагана, который не издал ни звука.
Ко мне обращались также и вольнонаемные, тем более что я считался врачом «из Москвы» и пользовался определенным авторитетом.
Среди охранников были также и женщины, одна из которых отличалась патологической грубостью и, несмотря на почти безграмотность, необыкновенным высокомерием. Заключенные ее ненавидели.
Как-то она пришла в амбулаторию и резким тоном потребовала:
— Дайте мне лекарство, но только самое лучшее, чтобы оно сразу подействовало. У меня уже три дня запор.
— А почему вы раньше ко мне не обратились,— поинтересовался я.
— Это вас не касается. Мне нужно лекарство и больше ничего.
— Хорошо,— ответил я,— сейчас вам дадим, только сначала вас надо посмотреть и измерить температуру. Покажите язык! Она высунула толстый, влажный и розовый язык.
— А сейчас ложитесь здесь на диван. Надо посмотреть живот.
— Зачем? У меня ничего не болит. Я же сказала вам, что у меня запор. Зачем вам мой живот?
— Ваш живот мне не нужен, но дело в том, что запор может быть признаком других заболеваний.
Охранница неохотно подчинилась. Живот оказался мягким, дряблым и безболезненным, и температура была нормальной.
— Вот сейчас я могу вам дать лекарство, только оно будет не очень вкусным. Я налил ей слоновую порцию касторки и не без умысла. Очень хотелось наказать эту нахальную особу.
— Что это за мерзость? — спросила она и сморщила лицо.
— Обыкновенная касторка.
— Я же просила дать мне самое лучшее лекарство.
— Это очень хорошее лекарство. Только посидите немного спокойно.
Я записал ее данные в амбулаторный журнал и задал еще ряд попутных вопросов.
Вдруг она вскочила, словно ужаленная, и с удивительной для ее комплекции быстротой, выбежала из амбулатории.
— Посмотрите, пожалуйста, что с ней случилось, и куда она побежала,— обратился я к санитарке Фросе.
Минутами позже, едва сдерживая себя от смеха, пришла санитарка, держа в руках обгаженные женские панталоны.
— Она не успела и наклала в штаны. Она их бросила здесь, в коридоре. Так ей и надо, гадине.
Об этом случае все узнали в тюрьме и долго еще потешались над охранницей. После этого случая она старалась не попадаться мне на глаза.
Как-то ко мне обратилась Мария Леонтьевна с просьбой:
— Пожалуйста, приведите амбулаторию и стационар в порядок. Должен прийти новый начальник тюрьмы.
Я знал, что в местах заключения существует такая система: если у тебя все в порядке и не к чему придраться, тогда благодарность получает твой вольнонаемный начальник. Если же найдут погрешности, беспорядок, грязь... то все шишки валятся на тебя, заключенного. Поэтому, ни на кого не надеясь, я всегда старался сам добросовестно выполнять порученную мне работу.
После обеда явился новый начальник, и я, как положено, встретил его стоя, по-военному, и представился.
— А мы с вами уже знакомы,— сказал он, едва улыбаясь, и тихо прибавил, — по Чистополю.
Новый начальник оказался никем иным как Прегаро, с которым я познакомился в этапной камере в Чистополе. Помню, как он сидел на верхних нарах, молчаливый, погруженный в невеселые мысли. Работнику НКВД очутиться в местах заключения равноценно смертному приговору. Тогда он, правда, находился вместе только с «политическими», которые обычно никого не трогают, а вот в лагере уркачи могли устроить ему самосуд.
Прегаро бегло окинул взглядом амбулаторию, осмотрел быстро стационар, а затем покинул санчасть.
— Думаю, что вы будете работать хорошо,— сказал он на прощание.
— А вы с ним знакомы? — удивилась Мария Леонтьевна.
— Да, мы сидели с ним вместе в чистопольской тюрьме.
— Я тоже что-то слышала о нем. Кажется, он находился в оккупационной зоне и еле вышел оттуда. Да, многих покалечила война.
Несмотря на то, что приходилось очень много работать, я не знал
усталости. Наоборот, мне было трудно сидеть дольше получаса на одном месте. В таких случаях я вскакивал со стула, если, например, находился в амбулатории или стационаре, и, хотя там нечего было делать, мчался в баню, в мастерские, на кухню или к инженерам.
Хорошее и, главное, обильное питание сделало свое дело, и я вновь стал сильным и крепким. Вес мой был оптимальным — 83 килограмма и ни капли (грамма) жира.
За благополучием больных следила сестра-хозяйка, которая распределяла продукты. Она заботилась и обо мне. Как-никак, но я был ее непосредственным начальником, от которого зависела и ее дальнейшая судьба.
Поэтому она и старалась. Но иметь в руках продукты питания, тем более в военное время, было большим соблазном и, нередко, сестры-хозяйки сбивались с верного пути, начинали заниматься различными комбинациями и попадали в конечном итоге сначала в карцер, а затем в этап. А кое-кому из них прибавляли и срок.
Ее звали Мавлия. Это была молодая, очень крепко сложенная, круглолицая и румяная татарочка, лет двадцати четырех. Щеки ее напоминали красные яблоки, и, казалось, ткни пальцем, и сок брызнет.
Как и многие татарки, Мавлия отличалась большой аккуратностью и чистоплотностью и к тому же была очень внимательна и исполнительна. Она где-то обменивала хлеб на масло и мед, чтобы угощать меня, получала иногда передачи, которые делила со мной. Мавлия даже достала мулине и вышила мне рубашку. Все это, однако, делала мне, кажется, не из подхалимажа. Ее чувства были глубже.
Прирожденная стеснительность не позволяла ей говорить об этом, выражать словами. Она была замужем, и я чувствовал, что в душе ее шла борьба. Но как бороться со своими чувствами? Среди татарок не очень принято изменять своим мужьям, может быть, главным образом из-за боязни «возмездия». Другое дело, когда «грехопадение» не становится известным для окружающих. Когда руки развязаны, и не надо опасаться последствий...
Мавлия недолго боролась...
Однажды, когда я отдыхал в амбулатории, она подошла ко мне, опустив голову, и села на край моей кушетки. Помолчала немного, а затем, вздохнув, сказала:
— А мне скоро на свободу, осталось только три месяца.
— Счастливый человек,— ответил я,— а мне еще больше трех лет сидеть.
— Я вас понимаю. Вам наверно очень тяжело. Но я не очень счастливая.
— Почему? — удивился я.
— Да, так. Немного грустно.
— Грустно? Почему? Неужели расставание с тюрьмой может вызвать грусть?
— Конечно, нет. Жаль расставаться с людьми.
— С людьми? С надзирателями и операми? С уголовниками и доходягами?
— Что вы... с ними, конечно, нет.— На ее лице появилась улыбка.
— С кем тогда?
Мавлия застенчиво положила свою руку на мою.
— Зачем отвечать,— она заметно покраснела,— сами знаете. Я притянул ее к себе.
— Сейчас, подождите. Мавлия быстро встала и зашла в соседнюю комнату. Когда она вернулась и села на кушетку, белый халат немного распахнулся, и я заметил, что под ним не было ничего.
Я оглянулся. Она заметила мой взгляд и сказала, перейдя на «ты»: «Не беспокойся, я закрыла дверь на крючок...»
Все шло хорошо, и жизнь в тюрьме нам уже не казалась такой серой и мрачной. Но вмешался коммерческий дух молодой женщины, который взял верх над благоразумием. Одна неудачная комбинация с бельем и продуктами была достаточной, чтобы Мавлия была снята с работы и оказалась в карцере.
Охранник, который в это время обслуживал карцер, был мне знаком, и, вручив ему в знак благодарности пятьдесят рублей, я мог в течение пяти дней передавать Мавлие хлеб, масло и другие продукты питания.
После карцера ее перевели в общую камеру, и двадцать дней она находилась вновь на моем «иждивении».
Ей угрожала новая статья, или, говоря тюремным языком, собирались «пришить» новое дело.
Как-то во время обхода камер она подошла ко мне и сказала:
— Очень прошу тебя, помоги, чтобы меня отправили отсюда. Иначе осудят снова.
— А как?
— Попроси нарядчика, дядю Женю. Он тебе поможет.
Я так и сделал. Дядя Женя не был без греха и его любовницу — пышную блондинку — я выручал неоднократно, в том числе и таблетками хинина.
Дядя Женя действительно помог и отправил Мавлию с первым этапом в одну из близлежащих колоний.
Прощаться не пришлось. Я в тот день был занят в стационаре, и не было возможности уйти.
Недели через две, это было уже под вечер, ко мне подошел банщик Давлетчин и тихо сказал:
— Доктор, пошли.
— Куда? — удивился я.
— В прачечную. Тебя очень ждут. Сама знаешь, кто. Свет не надо, якши?
— Понятно.
— Если чужой придет, моя будет стучать. В дверь.
— Хорошо.
В прачечной было темно, и я ничего не видел и не понял, куда идти.
— Я здесь,— услышал я знакомый голос и увидел в конце помещения смутные очертания Мавлии. Она сидела на скамейке, и, положив руки на колени, ждала меня.
— Ты как попала сюда? — изумился я.
— У меня там, в колонии знакомый начальник. Наш деревенский. Он мне дал командировку в «пересылку». Там баня не работала, и я попросилась сюда.
— Но это же рискованно. Ты же скоро должна выйти на свободу?
— Да, через десять дней. Но я хотела тебя видеть. Мы же с тобой не прощались. А это нехорошо. Я же тебя люблю...
Получилось то, чего я опасался. После нашего свидания Мавлию задержали в тюрьме и снова посадили в общую камеру.
Под предлогом медицинского осмотра я вызвал ее в амбулаторию, чтобы узнать, в чем дело.
— Боюсь, что меня снова будут судить,— сказала она, нервно поправляя волосы.— Все зависит сейчас от нашего бухгалтера Веры. Все документы у нее. Очень прошу тебя — помоги. Поговори с Верой.
У меня был свой кодекс чести, и один из его пунктов гласил: помогать другу, если он попал в беду. Любыми средствами. Поэтому считал своей обязанностью сделать все, чтобы Мавлию не судили. Только вот вопрос: как? Каким образом?
Конечно, в первую очередь следовало бы поговорить с Верой. Это была статная женщина лет около тридцати, не лишенная привлекательности, с темно-русыми волосами и правильными чертами лица, но, судя по всему, с довольно твердым характером.
Мы довольно часто с ней беседовали после работы в амбулатории, и между нами установились хорошие, товарищеские отношения. Она рассказывала мне о себе и о своих увлечениях и даже о том, что лишь однажды изменила мужу. Больше изменять ему она не собиралась.
Жорж Санд как-то сказала: «Есть женщины, которые всю жизнь могут жить без мужчины, есть женщины, которые всю жизнь живут с одним мужчиной, но нет женщины, которая жила бы лишь с одним любовником».
Из этого я сделал вывод, что Вера могла бы изменить еще один раз. Правда, я не ставил себе цель покорить Веру и надеялся просто на человеческое сочувствие и милосердие. Кому охота причинить горе другому человеку, который уже обижен судьбой и попал в тюрьму.
Как-то Вера рассказывала мне забавный случай из своей жизни:
— Понимаете, в жизни бывают случайности. Я, например, вышла замуж совсем не за того, которого любила, и знаете почему?
— Нет.
— А дело было так: мы были с ним на вечере, на танцах, и он неожиданно пукнул. На этом кончилась наша любовь. Смешно, не правда ли? А может быть и глупо.
В один из вечеров я специально задержался в амбулатории, чтобы поговорить с Верой и попросить ее помочь Мавлие. Но говорили мы сначала совсем о другом.
У нее, видимо, было подавленное настроение и желание поделиться с кем-то своими невеселыми мыслями.
— Как тяжело в тюрьме,— вздохнула она,— мучает одиночество. Кажется, что у меня уже нет близких, нет семьи и нет мужа. Все это отодвинулось далеко от меня. Никто тебя не утешает, никому ты уже не нужна. Не с кем поделиться своими радостями, или, вернее, горем. Здесь знаешь лишь одно — работу, не считая сна и еды. Однообразная и серая жизнь. Без просвета. Она сделала короткую паузу, а затем тихо прибавила:
— И, кроме того, я еще женщина.
Я немного удивился, особенно последней фразе и решил испытать ее.
— Что хотели этим сказать?
— А вам это непонятно? — она испытующе посмотрела на меня.
— Я, конечно, понимаю, что вы женщина, а не мужчина, а дальше что?
— Это вы специально задаете мне такие вопросы?
— Раз мы начали эту тему, то можно говорить и в открытую. Зачем пользоваться туманными словами? Мы не маленькие.
— Что ж, если так, могу сказать и по-другому. Я почти год в тюрьме и год без мужчины. Надеюсь, что вам это понятно.— Она посмотрела на меня с вызовом.
— И вы страдаете?
— А вы как думаете? Вы знаете, чем женщины занимаются в общей камере? Я этого не могу.
— А зачем страдать?
— Не понимаю ваш вопрос.
— Вы же можете свободно передвигаться в пределах тюрьмы. Могли бы найти себе мужчину.
— Это не так просто, как вам кажется. И, кроме того, у меня муж.
— Вы, по-моему, не единственная женщина в тюрьме, у которой есть муж. И никто вам не мешает быть ему верной. Сидите и думайте о нем.
— Я и думаю о нем, но мне от этого не легче. Он там, а я здесь.
— Тогда я должен повторить: ищите себе мужчину.
— Как, по-вашему: я должна идти по камерам в поисках подходящего объекта, в мастерские, или к инженерам? Или, может быть, вам сделать предложение? — На этот раз она опустила глаза, и на щеках появился легкий румянец.
— А почему бы и нет? Я что, урод?
— Что вы? Вы, по-моему, очень интересный мужчина, но какое это имеет отношение ко мне?
— А вы попробуйте.
— Что?
— Сделайте мне предложение.
Вера сделала от удивления большие глаза.
— Вы говорите серьезно?
— Конечно.
В это время показалась на пороге Фрося, наша санитарка.
— Доктор, вас просит больной. Придите, пожалуйста, в стационар.
— Хорошо. Сейчас приду.
На лице Веры я заметил огорчение.
— Завтра вечером продолжим разговор. Придете вечером?
— Приду,— ответила она тихо.
— Но к вам одна большая просьба. Поможете?
— В чем?
— Выручайте Мавлию.
— Мавлию? Зачем?
— Потом скажу. Подумайте.
На следующий день в точно назначенное время Вера пришла в амбулаторию. На ней была чистая белая кофточка, и только что вымытые волосы свободно падали на плечи.
— А почему вас так заинтересовала Мавлия? — спросила она с вызовом.— Вы что, влюблены в нее?
— При чем здесь любовь. Мы с ней работали вместе не один месяц, ома мой работник, и я считаю своей обязанностью помочь ей.
— А если она занималась спекуляцией? По-вашему надо ее гладить по головке?
— Этого не надо. Но мы здесь все не без греха. И вы тоже. Мне кажется, что мы должны помогать друг другу. Ей осталось сидеть лишь несколько дней.
— А мне вы поможете тоже в беде? — на этот раз Вера взглянула на меня с озорством, и заулыбалась. Я понял тонкий намек.
— Безусловно, и в любое время,— ответил я после небольшой паузы и прибавил, — хоть сейчас.
При этом я вспомнил индийскую мифологию, когда Брахма оттолкнул от себя изнывавшую в страстном томлении нимфу Мохини, у которой согласно «Брахмавайватрапурана» «были широкие бедра, крепкие ягодицы, высокая грудь и лицо прекрасное, как луна в осеннее полнолуние». И тогда разъяренная Мохини прокляла его. Брахма в смятении бросился к Вишну за советом и получил следующую отповедь: «Хоть ты знаешь веду, ты совершил преступление, которое не совершит даже убийца. Женщина есть пальцы природы и драгоценные камни мира. Зачем ты укротил свои страсти? Если женщина неожиданно воспылает любовью к мужчине и придет к нему, мечтая о соединении с ним, мужчина, пусть он и не испытывает к ней страсти, не должен отвергать ее. Если же он отвергнет ее, то в этом мире навлечет на себя различные несчастья, а в том мире попадет в ад. Мужчину не осквернит связь с женщиной, добровольно ищущей его общество, даже если она куртизанка или замужем».
Ад меня не привлекал.
— А вы спешите,— Вера улыбнулась.
— Здесь приходится спешить.
— Мы, кажется, хотели продолжить вчерашний, прерванный разговор. С этого, по-моему, надо было начинать.
— Вы правы. Я просил вас помочь Мавлие...
— Это вы уже говорили.
— А вы поможете ей?
— Это зависит от вашего поведения.
— Мне кажется, что нашу беседу следует продолжить в другом месте. Здесь нам могут помешать.
Кажется, Вера меня поняла. Она немного подумала, словно решая трудную задачу, а затем резко встала.
— Пойдем! — Она перешла на ты.— Мария Леонтьевна доверила мне ключ от своего кабинета. Только, пожалуйста, никому об этом не говорите. Пусть это будет наша тайна,— шепнула она заговорщически.
В кабинете мы больше ни о чем не разговаривали. Все было ясно без слов. Вера помогла, и днями позже Мавлия была на свободе. Прощаясь со мной, она заплакала.
— Никогда не забуду тебя,— были ее последние слова.
В амбулаторию ко мне обращались довольно часто малолетки с осложнениями после татуировки — различными по величине гнойниками. Крайне редко приходили уркаганы, т. к. все уже были давно разрисованы, иногда от головы до ног.
Бывали настоящие «эпидемии», когда в какой-нибудь из камер сразу человек десять подвергались этой небезболезненной процедуре.
Для этой цели обычно связывали три иглы вместе и, примерно в одном миллиметре от игольных кончиков, наматывали ограничительное кольцо из ниток. В качестве краски использовали тушь, а поскольку ее в камерах не бывало — резину от галош, которые сжигали. Даже примитивнейшая антисептика отсутствовала. У «специалистов» часто имелись специальные трафареты, которые облегчали работу.
Всегда, когда поступал новый этап, я ходил в баню и знакомился там с вновь прибывшими и не без интереса изучал татуировку уркачей.
Встречались как простые, так и сложные рисунки, а также различные надписи вроде: «не забуду мать родную», «вера, надежда, любовь», и, конечно, имена, как мужские, так и женские.
Уголовники любили изображать орла на груди, рыцаря в тигровой шкуре, портреты Ленина и Сталина, рисунки игральных карт, ножей, креста, змей, обнаженных женщин.
Татуировка - восьмиконечная звезда означала, что она принадлежит профессиональному вору, сердце, пронзенное кинжалом — знак вора в законе. Паук в паутине чаще всего изображали наркоманы. Согласно воровским законам другие не имели права украшать себя подобными рисунками.
Несколько раз я встречал у уркаганов со стажем юмористические сценки, вроде «кота и мышки». На спине красовался огромный кот, который бросался на мышей. Мыши спасались кто куда. Одна из них нырнула в задний проход, и видны были лишь задние лапки и хвостик. Другой
вариант «кочегар» — изображал мужика с лопатой, который бросал уголь в топку, т. е. в задний проход.
Надписи делались в основном на руках, груди и спине, менее скромные, особенно у женщин, на бедрах, вроде «умру за горячую е...» Встречались татуировки и на пенисе.
В бане я обратил внимание еще на одну деталь, которая мне не была знакома. Татарки, оказывается, выдергивали ненужную растительность на лобке и этим сильно облегчали труд парикмахерам. Им с ними делать было нечего.
В апреле прибыл этап из Чистополя, и среди заключенных я узнал того Гришу, с которым находился в карцере. Он был, как и тогда, бледен и истощен.
— Здравствуй, Гриша,— приветствовал я его. Парень сделал удивленное лицо.
— Не узнал меня?
— Нет.
— А помнишь, мы с тобой еще сидели в карцере, и ты рассказывал содержание «Отверженных». Ты мне еще предсказал, что скоро умру. На лице парня появилась смущенная улыбка.
— Да, вы были настоящим доходягой.
С тем же этапом прибыла худощавая женщина лет тридцати, которая отличалась от остальных своим внешним видом. Не только тем, что была чисто и аккуратно одета, но и своим лицом — узковатым с тонкими чертами и хитрецой. Лицо человека, не занимавшегося физическим трудом. Она не была красавицей и не в моем вкусе, но заставляла обращать на себя внимание.
— Фамилия, имя, отчество, год рождения, статья — спросил я по привычке.
— Веденеева Елена Александровна, 1917 года рождения, статья 58— 10...
— Вы кто по специальности.
— Врач,— на ее лице появилась улыбка.
— В каком институте учились?
— Во втором, московском.
— А я в первом...
Веденееву направили в небольшую камеру, в которой в основном находились рабочие тюрьмы — уборщицы, прачки, повара...
Она довольно часто появлялась в амбулатории, беседовала с Марией Леонтьевной как со старой знакомой и вела себя весьма непринужденно.
Девятое мая запомнилось мне неожиданной стрельбой. Я сначала никак не понимал, кто и зачем стрелял, но вскоре послышались восторженные голоса: «Победа!», «Война кончилась!»
День этот был для всех праздником и не только потому, что наконец-то наступил мир, и кончилось кровопролитие.
Заключенные мечтали об амнистии, но я не ждал ее. Так и оказалось.
Амнистия 1945 года в связи с победой над гитлеровской Германией освободила осужденных впервые и сроком до трех лет по бытовым статьям. Осужденным по тем же статьям на более длительное время срок сокращался наполовину. Не подлежали амнистии бандиты, убийцы, грабители, фальшивомонетчики и приравнивающиеся к ним осужденные за контрреволюционные преступления.
Очень скоро первые заключенные покинули «пересылку» и были освобождены.
Среди них оказались и несколько наших медсестер, сначала ушла очень милая чувашка Нина — шатенка с пухлыми, красными щечками и очаровательной улыбкой, которая была осуждена по указу за самовольный уход с предприятия. Я вытащил ее из общей камеры и устроил в амбулаторию, за что она мне была очень благодарна.
Недели через три после освобождения она пришла в тюрьму на свидание со мной. Это был единственный такой случай у меня в местах заключения.
У нее не было денег, чтобы принести мне передачу, но я тогда ни в чем не нуждался. Для меня важнее были память и нежный поцелуй, которыми она меня награждала.
Когда мы прощались, я передал ей незаметно сто рублей. Я знал, что они ей будут нужны. Она же в свою очередь вложила мне в руку небольшое письмецо. В нем она призналась, что любит меня.
Покинули «пересылку» также медсестры: другая Нина, которая меня обычно сопровождала во время обхода камер, и сестра стационара Роза.
Роза отличалась тем, что прекрасно пела и еще лучше ругалась. Она в совершенстве умела объединить разнообразнейшие варианты мата в одно органическое целое и дополняла свою брань артистической жестикуляцией. Употребляя в своих выражениях анатомические понятия, она неизменно изображала их руками, или показывала пальцем на то место, где они локализуются.
Когда она дежурила в амбулатории, мужчины ходили к ней стаями на прием. Один еще не успевал выключить свет, как на сцене уже появлялся другой, настойчиво требуя свои права. Мы были рады, когда избавились от нее.
Конец войны и победа подняли настроение у заключенных, хотя далеко не всех из них касалась амнистия. Все надеялись на то, что жизнь в лагерях и тюрьмах будет лучше и главное — сытнее.
Что касалось меня, то я мог быть довольным. Работа меня устраивала, а питание тем более. Я уже не поглощал литрами баланду, не старался набить живот кашей и омлетами и уже не мечтал о дополнительной пайке хлеба. Меня интересовала в пище сейчас не количественная сторона, а качественная. В частности, я обменивал хлеб на масло и мед и старался есть поменьше, но получше.
Мой вес был сейчас оптимальный — 82 кг и при том без намека на жировые отложения. Снова я имел фигуру спортсмена-разрядника.
В таких условиях, как в «пересылке», можно было спокойно отсидеть свой срок, и я в душе мечтал об этом. Но получилось иначе.
Мария Леонтьевна и фельдшерица были в приподнятом настроении. Их мужья-офицеры остались живы и вскоре должны были вернуться домой. По этой причине мое начальство меньше всего занималось своими обязанностями и целиком рассчитывало на меня.
В один из июньских дней Мария Леонтьевна вызвала меня в свой кабинет. Она сидела за письменным столом и несколько смущенно посмотрела на меня.
— Садитесь, Генри,— она показала рукой на свободный стул,— должна вам сообщить новость, которая, может быть, вас не обрадует. Поступило указание «сверху» направить вас по спецнаряду в Марийскую республику. Там очень трудно с медицинскими кадрами. Мне очень жаль, что приходится расставаться с вами. Я возражала против этого решения, но...— она развела руками.
Часом позже я был вызван на вахту с вещами и не без сожаления покинул «пересылку».
* * *
Лишь через пять лет, в 1950 г., я узнал истинные причины своего перевода. А дело было так: в конце сентября 1941 г. мои сокурсники, студенты 5 курса, закончили ускоренным выпуском свое обучение и получили соответствующие документы. Что касается меня, то в связи с арестом 11 сентября 1941 г. я остался без диплома. В 1949 г. поступило указание Минздрава СССР о том, чтобы заурядврачи закончили свое образование в течение двух лет, иначе они будут автоматически переведены на должность фельдшеров. Мне сообщили из Москвы, что я могу получить диплом, но должен приехать за ним лично. Как спецпоселенцу, однако, такое разрешение мне не было дано. Пришлось поступить на пятый курс Ижевского медицинского института. Здесь, т. е. в Ижевске, я совершенно неожиданно встретил Веденееву, которая находилась в таком же положении, как и я.
Она мне раскрыла «тайну» моего перевода.
Оказывается, у нее были влиятельные лица в Казани, которые помогли ей остаться в Казани в «пересылке». Меня отправили в Марийскую АССР, а она заняла мое место...