

Анатолий Андреевич Маляров
Родился 21 апреля 1933 года в поселке им. Т.Г. Шевченко Березовского района Одесской области. После окончания в 1958 г. Киевского театрального института работал режиссером на Киевской и Днепропетровской телестудиях. Свою первую пьесу написал в 1958 г. и сам поставил на столичном телевидении. В последующие годы работал в Николаеве главным режиссером Николаевской телестудии, а также режиссером и заместителем художественного руководителя Николаевского русского художественного театра. На сцене этого театра по его пьесам были поставлены спектакли „Росс непобедимый” и „Страсти по Иисусу”. В Николаевском украинском академическом театре драмы и музыкальной комедии был поставлен водевиль „Криминальный массаж” (1993).
С 1975 г. прозаик регулярно печатается в журналах „Київ”, „Секрет” (Таллин), „Новый горожанин”, „Новый век” и др. Автор многочисленных повестей, телесценариев, пьес, рассказов и очерков. Пишет на украинском и русском языках. Трижды лауреат закрытых конкурсов на лучшую пьесу (для театра и для радио). Член Национального союза писателей Украины (1983 г.)
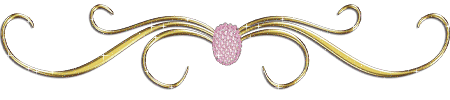
Записки лузера
Тупик
Здесь тупик. Отсюда поезда только возвращаются. Для меня – образ. Я в тупике, но возвращаться мне некуда. Прохожу маленький зал ожидания; воздух тяжелый, у ресторанной двери мешочник тузит прилично одетого карманника. Очередь отвернулась от кассы, зевает.
Площадь пуста, две чистые лужи, опрокинутый мусорный ящик, апатичный пес. У бордюра приткнут потрепанный “бобик”. Из приотворенной дверцы спускаются две точеные ножки в ортопедических туфельках. Смазливая мордашка улыбается, головка покачивает “конским хвостом” соломенного отлива.
– Я секретарь директора студии. Ляля. А вы очередной претендент?
Голосок серебряной пробы, в сером взгляде ожидание. Накопившаяся за ночь в плацкартном вагоне усталость принуждает меня молча развернуть телеграмму: “Приглашаетесь должность старшего режиссера... 5.4.61 года”
– Спрячьте. Я отправляла эту цидулу. Усаживайтесь, пока водитель пивком балуется.
– Зануда! – смиренно возражает подоспевший мужичок в захватанной кепке и пиджаке, из которого вырос.
Берется за руль. – Я – Полулях.
– Наш возница – благородных кровей, – комментирует Ляля. – Он лях, но не полный.
Переулок-подъем заасфальтирован городскими властями, двор радиотелецентра – госстроем, а вот полутораметровая прореха в воротах – никем, дымится волглым после вчерашнего дождика песком. “Бобик” без разгона не берет препятствие, рычит, зарывается, дымит. Сводит руки на груди вахтер, останавливается прохожий, из-под земли возникают два журналиста и молодичка с метлой – интересуются. Даже пожилой бухгалтер в налокотниках наполовину высунулся из окна радиодома, похожего на двухэтажный туалет.
Из-за угла здания под телебашней выходит гражданин в однотонном костюме. Лицо опечаленное, как бы припорошенное белым – знакомое; он вздыхает. Мотор глохнет, лица поворачиваются к руководителю, ждут указаний.
– Тц-цы, выньте машину, поставьте в сторонке, посмотрим, что оно получается. – И смотрит на меня с видом: а к чему бы все этот?
Топчется на месте, еще натужно вздыхает: – Значит, приехали? К нам, что ли? Тц-цы, тоже неплохо. – Почему-то слегка грозит пальцем Ляле: – Покормить и – наверх. Я к одиннадцати там.
И гражданин неуверенно, сомнамбулически бредет за угол телецентра.
– Спокойно, – едва не прыскает в ответ на мое остолбенение Ляля. – Директор признает вас сразу же, но после утверждения в обкоме партии. До того вы чужак. А пока – на завтрак, в “Сад радостей земных”!
Долго идем вдоль одноэтажек, тротуар покрыт песчано-грунтовой жижей. На перекрестке женская команда разбивает цветник. Секретарша ведет экскурсию:
– Тут стоял высоченный храм. К вашему приезду его, с Божьей помощью, снесли. Красив был, но по просьбе трудящихся...
Ни павильона с пирожками, ни забегаловки с похлебкой. Наконец, угол Херсонской и Советской –“Вареничная”.
Минуя спрессованную толпу за турникетом, девушка по-хозяйски ведет меня внутрь чумазого зала, останавливает судомойку или уборщицу, мужеподобную девку в переднике с отпечатками пятерни и с бланом под глазом:
– Привет, Лютик! Трудно совмещать обязанности вышибалы?
– Будь спок, – гнусавит “Лютик”. – Клиента увезли в “скорой”.
Лиля светски делает ручкой:
– Нам отдельный кабинет. Устрицы по-френбургски, два раза. Суп “Прентеньер”, тюрбо, да соус погуще. Шампанское с белой печатью.
Я украдкой касаюсь локтя спутницы:
– Не по средствам...
– Знаю, – только для двоих произносит Ляля. – Но Лютик же сказала: будь спок. И будем спок.
Нас усаживают на бойком месте, по нас ходят. “Лютик” приносит две порции елких, вывалянных в престарелом масле вареников, один Бог знает с чем, и два граненых стакана с волокнистым пойлом.
– О-о, конфитюр аля бурдэ! – не унимается секретарша. Официантка-вышибала поясняет мне:
– Не обращайте внимания, она в Николаеве на излечении.
К одиннадцати все та же Ляля везет меня в обком. Инструктирует:
– Вы мне симпатичны. Молоды, неприсмотрены. Мы вас оставим себе. Хотите иметь малый карт-бланш, сделайте так. Когда главный идеолог поинтересуется, знает ли вас Александр Иванович, вы без тени колебаний кивните: о, да!
– А кто это, Александр Иванович?
– Вам знать не обязательно. Ну, генерал, ну, недавно мы с ним... служили.
В огромном кабинете правит средней упитанности человек лет сорока. Тоже припорошен мукой или пудрой, тоже апокалиптически вздыхает и поцыкивает зубом.
В уголок забился директор студии.
– Значит, приехали? К нам, что ли? – сипит секретарь обкома.
Помню, что Бог создал человека по своему образу и подобию, догадываюсь, что идеолог подбирает кадры в том же духе. Не вздохнуть ли мне и не цыкнуть ли зубом?
– А вы того?.. – спрашивает вождь.
– Пока нет. Но мне только двадцать шесть лет. Успею.
Это мы выяснили мою партийную принадлежность.
И тут решающий звонок по телефону. Хозяин кабинета любезно гудит в трубку, посмеивается, как цыкает зубом, а про вздохи забывает. Кончает телефонный, продолжает кабинетный разговор:
– Вас знает Александр Иванович?
– О, да!
Директора оставляют, а мне велят совершить экскурсию по студии.
В отсутствие пастыря весь приход сгрудился в кинопросмотровом зале, кайфует. Ба, не все. На втором этаже два отставника в политруковских кительках режутся в шахматы. Соседняя дверь приоткрыта. Виден у телефона молодой старичок с пером в руке. Он мыслит и напевает:
Только на Ингуле
Нас не обманули.
Лишь на этой мели
Нас не поимели.
“Благословенный край, если так”, – думаю я и прогоняю побуждение – бежать куда глаза глядят и где меня не ждут. Нужно окапываться и строить карьеру тут.
Ляля дает мне адрес старика-добряка на Первой Поперечной для временной ночевки.
Перепрыгнув разрытый переулок, считаю досчатые калитки в плетнях из хмеля, дерезы и вишняка. На одной пригвожден почтовый ящик, похожий на улей, на другой странная афиша: “Желающие на телевизор смотреть кино с восьми вечера. Взрослым – двадцать копеек, детям – десять. А если кино детям до шестнадцати не дозволяется, то и детям по двадцать”. Бизнес!
Еще раз сигаю через ров, вхожу в темную калитку. Никого. Дверь в припорошенную веранду низкая, приотворенная. Стучусь. Молчание. Вхожу – тут же меня за мошонку хватает узловатая ладонь и пропитый тенорок спрашивает:
– Сколько у тебя санти?
– У вас в городе что, существует ценз оседлости? – нахожусь сгоряча.
– А шо, нельзя поинтересоваться?
Щербатая физиономия улыбается во все морщины:
– Проходи, звонили... Собаки нема, одолжил свату на Ленина, там крадут больше.
Выставляя мутную поллитровку, хозяин завидует мне, что я не знаю его ведьмы. После второй рюмки торопит, пока она не явилась с дежурства. После третьей сокрушается, что я такое же дерьмо, как и она: не хочу больше пить. А после четвертой замахивается на меня граненным стаканом. Ухожу едва ли не в окно. Блуждаю по прибитой пыли, потом по жиже на асфальте, вокруг жидкое, дальше яркое освещение, одноэтажки, потом хрущевки, казенные строения – и везде собаки.
Ночую, как и подобает главному специалисту, в гостинице, на все оставшиеся деньги. Задумываюсь о завтрашнем дне; концы обрублены, мосты сожжены... И вдруг сосед по номеру облегченно вздыхает:
– О жизни можно говорить только шутя. По большому счету о ней никто ничего не знает. А городу этому не грозят ни потрясения, ни землетрясения…
Смеюсь про себя, думаю: а вдруг, катясь все дальше в провинцию, я не опускаюсь, а поднимаюсь? Авось здесь найду по Сеньке шапку?!
…К удачам относится получение подъемных денег на всю семью, даже дорогу оплатили троим взрослым. Простота и нетвердое знание уложений иногда выгодны нам, простакам. Таких купюр я никогда в руках не держал. Чтобы не украли сограждане, тут же захожу в универмаг, покупаю ну просто на меня шитый костюм, любимого серого цвета, в крупную вязку, с едва заметной зеленой искоркой. Продавец поясняет:
– Залежался, потому что землякам не по карману.
Тут же отправляю почти всю оставшуюся сумму Лиде в Киев. Звоню ее подруге с почтового отделения, чтобы сразу не пошли слухи, что занимаю служебный телефон и вгоняю в расходы телестудию. Та рада за Лиду.
Занимаю большой кабинет, на дверях написано: режиссерская. Здесь Т-образный стол, телефон, театральное зеркало, два больших шкафа: один для костюмов, другой открытый – для заставок, фотоиллюстраций, в общем, для текущего видеоряда. Плохо, что на первом этаже, рядом с бойким местом, павильоном студии. По делу заходят стучась, а без дела... Вот влетел спиной и вытянулся на полу приземистый толстячок, рыкнул в не захлопнувшуюся дверь: “Засранец!”, – вскочил и выбежал. Видимо, человека поддели, не рассчитав направление падения.
А вот заходит белесый красавец, едва за сорок, вежливо здоровается и сразу принимается щупать мой новый костюм, забытый на трембельке при входе.
– Выдан по талону? Или благоприобретен? – спрашивает по-домашнему и, не дожидаясь ответа, загорается всей физиономией: – Продайте по доступной!
Изучаю планы, программы, смотрю на тускленький черно-белый экран в углу. Одна собственная программа. Даже из соседней Одессы не идет трансляция – дорого. Релейной линии нет, – а самолет, который по вечерам кружил с антенной на борту на полпути между полисами, разорил горсовет. Видеокамеры печатают, потому что допотопные; операторы все время утюжат картину, чтобы не появлялось два и три изображения. Тексты сценария почти все переписаны с газет: длинные, неразговорные фразы, в начале предложения понятно, что и как скажется в конце.
Начальства не видно. Директор с утра заходит в свой кабинет, повздыхает, растерянно поцыкает зубом и вызывает Полуляха:
– Че я буду сидеть и терять квалификацию как журналист!
Удаляется на полдня. Потом обедает, потом, если не вызывают в обком, сидит и переписывает из утренней газеты информашки, так как самостоятельных наблюдений и выводов из поездок на предприятия делать не смеет.
Оказывается, есть над нами еще старший начальник: Председатель областного телерадиокомитета. Тот сидит на Адмиральской улице, тщательно смотрит наши программы, чтобы хоть по касательной уловить, что оно такое – телевидение. Мудрый крестьянин с едва довершенным заочным педагогическим образованием сам шутит: заочно выучиться – все равно что заочно пообедать, – и не показывается у нас.
Светлое пятнышко, пожалуй, во всем городе – секретарь Ляля. У нее здоровое серое вещество в черепной коробке и уникальная ориентация в людях. Заходит, садится к дальней стенке, просвещает новичка:
– Директор избегает студии потому, что не знает, что и кому сказать. Бывший уполномоченный по делам православной церкви. По невежеству града и мира вам дается карт-бланш. Держите хвост пистолетом!
Она же намекнула, что год назад “разик сотрудничала” с Первым заместителем Председателя горсовета, и повезла меня к нему на прием.
Длинный, басистый и толковый мужик пояснил мне доверительно:
– Хату вы получите. Но “Белый дом” ожегся на вашем предшественнике и теперь боится “варягов”. Присматривается к вам: что вы умеете в деле и чего вы не умеете в шулерстве. А я присматриваю вам высвобождающийся фонд поближе к телебашне.
И вдруг проявил необъяснимую симпатию, видимо, благодаря похожести нашего роста, манер, может, из-за присутствия очаровательной Ляли:
– Тем более, что вас ждет трехмесячная командировка в Киев. В нашей буче, серой и дремучей, есть пару трезвых умов. Вот они всмотрелись в вас и решили вырастить “ведьму в собственном коллективе”. То есть, веря в ваши возможности, подучить вас в столице именно профессии руководителя режиссерско-постановочной группы телевидения. Так что вернетесь львом, а тут подоспеет квартирка. – И взгляд на девушку, мол, как я выдал?
Пока что меня поселяют в общесемейку на Террасной, в трухлявые стены, возведенные еще пленными немцами из подручной глины, дранок, отходов трофейного производства. Двухэтажка, общий полутемный коридор, в обе стороны барачные комнаты, в каждой от двух до четырех обитателей. В конце – кухня с баллонными газовыми печками и примусами. Штатная принадлежность – коты, которые при зазевавшихся кухарках прыгают к раскаленной сковороде и когтями сметают недожаренную котлету. И куда ни повернешь – рецидивист Валек на подпитии.
Туалет с тыльной стороны под окнами. Пять низко отгороженных дырок, перед ними черствое дерьмо с мякиной, в нем круглые гнезда с початыми бутылками. По утрам пролетарии, справляя большую нужду, опохмеляются вдали от глаз своих благоверных.
Мне достается одна из двух коек в тупике, в изоляторе, окошко печное. Стены голые, но на одной – большой, писанный маслом, портрет Ленина. Падаю на продавленный матрац, утопаю в панцирной сетке, поэтично закладываю руки за голову и углубляюсь в планы оплодотворения печального казенного заведения без специалистов и с допотопной техникой. Мечтаю обратить его в цивилизованное творческое создание со столичными замашками, современной культурой. Говорят же философы: чтобы разбудить целое общество, достаточно одного настырного звонаря! Так… убрать эту дурацкую манеру начинать единственную программу с гимна страны, прокручивать каждый вечер в девятнадцать ноль-ноль кинокадры с караваном чистеньких комбайнов в высокой пшенице, спуск океанского судна со стапеля, с мордой ныне здравствующего секретаря ЦэКа компартии и - ликующие толпы народа на демонстрациях... Так... нельзя же ежедневно подавать духовную пищу в таком меню: радостные вести с заводов, полей и ферм; героическое кинотворение о партии в войну и послевоенные годы восстановления; советы какого-нибудь ветеринара об оплодотворении свиноматок с кинокадрами случки; лекцию о пребывании Ленина в Цюрихе. Новейшее евангелие… А в заключение, словно в насмешку, очаровательные кадры ночи над лиманом и музыка Шуберта - “Серенада”. Думаю…
Вдруг дверь вышибается ногой. Четверка шумных работяг втаскивает пятого, плотного коротышку, в пиджаке на одной руке и без обувки. Он требует:
– Сначала верни шкалец!.. И подними Дему!..
С размаху пришельцы водружают бухарика на свободную койку, прямо на ржавую сетку, и поясняют мне как старому знакомому:
– Комендантши муженек. – Отдуваются, кряхтят, привязывают страдальца к спинкам кровати. – Бьет нашу кормилицу-поилицу... мы его и того...
Супруг начальницы сучит ногами, прогибается, орет:
– Вы фашисты! Люди, спасите! Люди, вы видите, что они делают с рабочим классом! – Мутные глаза останавливаются на портрете вождя. – Ленин! Спаси ты меня, как спас в семнадцатом!! Что же ты молчишь? – И с большей обидой: – Ленин! Ленин, е... твою мать! Спаси своего кореша!!..
Носильщики уходят. Пьяница дергается рядом, испускает ветры.
Меня подмывает оставить свои грандиозные надежды на карьеру и квартиру и бежать. Останавливает следующая мысль: меня никто нигде не ждет. Я случайно попал на перспективную должность - по невежеству руководства да поспешности возведения телебашен. А где-то Лида в ожидании крошки… а тут присматриваются ко мне, чтобы одарить. А вскоре – трехмесячная жизнь в обожаемом Киеве, как в студенческие годы...
Засыпаю одновременно с соседом по несчастью, к которому так и не пришел на помощь его вождь.
И снится мне корона на голове, единственная в стране телестудия у ног, вышколенные специалисты со всем пиететом к своему главе, Лида с малышом в обширных, по-царски обставленных хоромах…
* * *
Коротышки под вышкой
Масштабы столицы и киевской телестудии пугали меня. Там большой выбор одаренной и спорой молодежи, выдвинуться провинциалу со скромными задатками и потомственной от деда-дворянина ленью трудно. А в Николаеве кадры мне по плечу.
Вот избранные портреты.
Очередной режиссер Борис Ефимов. Среднетехническое образование. Служил старшиной в гарнизоне, руководил солдатским драматическим кружком по призванию. заметно не чуждался рюмки. Типичный случай из армейской жизни. Ранняя весна, ледоход. Угораздило трех его подчиненных оказаться на плоту, который оторвала волна от причала и понесла в лиман. Ветер воет, льдины садятся друг на дружку, солдатики мечутся и шумят на плоту. Ефимов бегает по берегу, понятно, под хмелем. Вдруг соображает, орет против ветра:
- Бросайте якорь!
За третьим воплем страдальцы на плоту расслышали, орут в ответ:
- Так он же не привязан!
Старшина и режиссер не расслышал, командует:
- Мать его так, бросайте!!
Дважды подчиненные (по службе и по драматическому кружку) человечки подняли якорь и бросили в глубь.
А плот пошел дальше.
Город знает Ефимова по афоризмам, типа: «У нас только покойник не врет и не ворует». Или: «Есть жрецы, а есть обжоры. Именно последние и есть наши поводыри».
Теперь этот мудрец - режиссер общественно-политической редакции. Журналисты волокут в студию лекторов обкома компартии, затянутых до глаз навылет красным галстуком и косноязычных. Наш режиссер на репетиции запугивает их образом огромной аудитории, какой у них никогда не было. Потом собственноручно ослабляет галстуки, ведет на прямую передачу,- видеомагнитофонов у нас пока нет, но партия гарантирует в ближайшие годы. Пока же надо приходить не в черном или белом, так как будут «тянучки», а в сером, соответственно… Вечером «дорогие гости» рассказывают в глазок камеры, как весь народ единодушно выполняет решение пленума и идет навстречу очередному съезду… Борис сидит за пультом и балдеет, сам никак не поверит, что картинка идет на телебашню, потом в эфир и на приемники. Чудо, магия! Ну, и хрен с ней – сто сорок рублей и премия это больше жалования старшины и солдатского пайка.
По всему даун-тауну пипл хавает: «Ты гля! В моей хате движется и говорит! Маня, не крой меня матом, может, оно тоже нас видит!»…
Редактор «Сельских вестей», тощий и хваткий парень с удивительной для наших краев, стихийной грамотностью и насмешкой над всем и вся - Саня попал в студию не по своей вине.
Слободская молва (через ведунью Лялю) донесла такое. На окраине, у сердобольной Пантелеевны Глава Комитете по телевидению и радиовещанию Кныш снимал почасово темную спаленку. Порознь с ним сюда приходила молодичка, такая подмалеванная, вся из себя и во всем на себе! А у той молодички был муженек, говорят, подобрала из студентов молоденького. Вот этого хлопца по получении диплома и через постель, она и устроила аж на телевидение!
Теперь Саня раз в две недели берет командировку в далекие села. С ним катит оператор и, естественно, шофер. Там снимают не то, что проницательный юноша видит и от чего морщится, а то, что наговаривает в кадр раздобревший председатель. Потом денек отдыхают на природе, разумеется, с чаркой и закуской, заполняют багажник, чем богат колхоз по сезону. Дома монтируют с поправкой на последние решения свыше и подают на ужин пиплу.
Студийный оператор Борис Евдокимов, человек с точным глазом, уверенной рукой, даже со вкусом, отчаянно служил парторгом. Его преданность била ключом и смущала даже самых темных членов коллектива, которым по херу были и партия и «новое искусство». Источник ее держался в глубокой тайне полишинеля, сказали бы на Водопое, где он родился и умрет, если бы оперировали таким понятием.
Суть. Когда в сорок первом наши бежали на восток, он спрятал гимнастерку и галифе с обмотками, содрал с какого-то деда на хуторе сермяжку с портками и галошами и вскоре осиял на Водопое. Поначалу перепрятывался у своей молодой соседки, а чтобы не ворчали ее древние родители, обвенчался ночью, в чуланчике, под ризой беглого монаха. Она в должное время понесла. А тут вести из-под Сталинграда, откат немцев и угроза возвращения наших. Боря потерял рассудок: знал, что родина не щадит дезертиров, да еще из хохляндии. Требовал сделать аборт.
Женщина уверяла, что поздно. Он пробовал насильно поить ее снадобьями от цыган, морил трудами и голодом. Не помогало. В приступе гнева бил руками и ногами, топтал ее пухлый живот. Малыш родился, и на диво великолепный. В отчаянии Борис побежал навстречу нашим войскам, кричал о своем жутком плене, показывал свою блевотину, мол, легочник, но партизанил! Пушечного мяса на передовой не хватало – поверили Боре. Парень умен, обрел легкую царапину и подался выслуживаться по тылам. С очередным повальным набором, чтобы, если убьют, считаться коммунистом, попал в партию.
После победы его пристроили на непыльную работу: в конторе кинопроката просматривать фильмы, годятся ли на экран. Эрудиция повалила на парня валом: он добивал и сотрудников и самого начальника проката фразами и песнями из советских и взятых в качестве трофея фильмов, поучал всех и каждого морали из просмотренного. И так полтора десятка лет. Его стали уважать, а вскоре – бояться. И когда появилось телевидение – сплавили. Человек видел готовую творческую работу, значит, может готовить ее и сам.
Очень весело, но Борис Евдокимов застал на студии молодого оператора Витю Евдокимова, которого сразу увел в подвальчик, поил пивом и умолял считать себя однофамильцем родного отца. Даже обращаться «на вы»!. Официально сия коллизия никому не доносилась, подспудно ее мусолили грешный и праведный, пока она, естественным образом, не надоела и не была заменена другими новостями из коллектива и города.
Да, Бориса я запомнил по профессиональной (откуда бы!) операторской работе и по анекдоту начала шестидесятых:
- « Хаим, у тебя еще стоит?»
- «Ах, Абраша, стоит, только гордости в нем нет!»
Был у нас еще диктор Володя, котрый, благодаря неимоверной популярности среди телезрителей, все свободное время проводил за винным столиком с начальниками мебельных, овощных, нефтяных и прочих баз. Через него можно легко достать то, что напрямую совку не доступно. Пришел Володя с судостроительного завода, где устанавливал унитазы на строящихся кораблях. А все конкурсы чтецов!
Был еще хороший главный инженер телецентра, Афанесьевич, упорный коротковолновик. Днем корпел над подержанной телетехникой, скинутой нам со столицы Украины, поскольку Киеву скинула свою подержанную технику Москва. Так этот Афанасьевич по ночам связывался с коллегами в разных странах и по утрам хвастался, с кем и как поговорил на своем эсперанто. Однажды замолчал. Ходил сутулый и оглядывался на каждый шорох. Даже пить начал. Под сильным ступором признался ближайшему другу: среди ночи попал на новую волну. Ему любезно ответил абонент: погодите, его величество сейчас подойдет. Пока Афанасьевич осмысливал шутку, ему ответили: с вами говорит король Иордании Хусейен. Поговорил как в обмороке: здравствуйте… как успехи?.. здоровье… почем у вас селедка?... Теперь главный и редкий специалист ходит сутулым, бледным, на приветы отвечает не сразу… все ждет явления компетентных органов, категорического приглашения, куда следует, далее, увольнения, вербовки и прочих несчастий. Даже к новой технике потерял интерес, даже супруга стала жаловаться на потерю интереса и к ней и к хозяйству… Бедные, бедные его два огольца!..
Был еще завхоз, отставной подполковник с начальным образованием, страстный любитель вворачивать непонятные ему слова. Произносил так, что и нам они были непонятны. Вместо «энтузиаст» говорил «энтуазист», вместо «корпорация» – «копирация» и еще сотня словечек покруче, на русский мат похоже. Отличительной чертой его здоровья был склероз. Я этого не знал, полагал - дурак и только, собственно, это в натуре советского офицера. Не знал и послал его с торбой фруктов навестить больного сотрудника в Лески. Старик подошел к больничке, разволновался, и на вопрос дежурного врача тупо прокручивал одни и ту же слова:
- Я с телестудии, я с телестудии… вышка… того понятно? Тут с телестудии…
Добрый лекарь приобнял закрученного старика, усадил на лавочку:
- Посидите, я вам принесу таблетку, успокоитесь.
Но это только цветочки. Как добрый начальник я решил сам навестить больного. Через день соорудил новую торбу и ринулся в дорогу. Как работник с крайне ограниченным временем, я пошел к медицинскому городку с черного края, со стороны рощицы. В пяти-семи метрах от парадного больницы на высоте около полутора метра тянулась толстая труба отопления, обмотанная толстым утеплителем. Я на бегу нырнул под нее, с той стороны резко выпрямился… Окзалось, вплотную шла такая же мощная труба, но с оголенным металлом. Я со всей пружинистостью моего молодого организма врезался в нее теменем. Покачался, пьяно подался вперед. Глаза мои явно сходились к переносице и уходили в дальние уголки разрезов. А на пороге стоял вчерашний врач. Я пытался спрятать свой конфуз, выпрямиться и смотреть доку в глаза. Лепетал, видимо, точно так, как вчерашний завхоз:
- Я с телестудии… я с телестудии… Вышка…
Врач подался назад и округлил глаза:
- Сядьте на лавочку. Я принесу вам таблетку. – Но интерес его был шире и док спросил: - У вас что, все такие под вышкой? Высокочастотное облучение…
Был еще, была еще… На всю контору был один современный, натасканный, всеобъемлющий человек и тот, как выразился Ноздрев: признаться по правде – свинья. Это даже не человек, а женщина – секретарь Ляля. Свинья она тем, что пристрастилась системно обогащать меня выше упомянутыми и еще многими-многими сведениями из своего неисчерпаемого источника. А еще – не задумываясь, меняла сущего любовника на грядущего, даже генерала - на шофера и главного специалиста - на очередного.
Начал я службу широко. Занял большой кабинет. Объявил об утренних планерках. Очередной режиссер, две ассистентки, две помощницы, три студийных оператора, два звукорежиссера, два кинооператора и прочий штат постановочной группы должен являться к девяти утра.
Сам с вечера пошел по редакциям собирать сценарии на завтра и на последующие дни. В малых кабинетах журналисты встречали меня улыбками, мол, какие сценарии? У нас оперативная работа. Завтра с утра проверяем, то ли и так ли мы написали, потом несем главному редактору. Тот вычитывает, отправляет в цензуру. Привезут вам к четырем по полудню. До семи, то есть, до выхода в эфир у вас еще уйма времени.
- Я хотел бы соответственно обставить студию. Поработать с участниками программ..
- Студию у нас обставлять не чем. Вон – четыре серые ставки, два кресла, столик, ну, торшер – и дуйте.
- Это же не радио!
- Не один черт?
Утреннее собрание у меня в кабинете превратилось в самую общую болтовню, нечто вроде теоретических занятий. А так, как я человек мягкий и душевно зависимый, то болтали больше подчиненные, причем – кто во что горазд. У некоторых были оригинальные взгляды на телевидение.
Глупый говорил, что мы должны привозить из колхозов людей целыми бригадами и показывать передовиков во весь рост. Каждый день. Ленивый полагался на журналистов: дайте им сесть в кадр и пусть болтают. С нас меньший спрос. Младший Евдокимов огорошил меня вопросом:
- Вы читали Гарина-Михайловского «Два года в деревне»?
- Читал. К чему вы?
- Помните, когда новоявленный хлебодар притащил в свое сельцо сеялки-веялки, крестьяне не только разбивали технику, но и стали жечь добро писателя: овин, стог, строения.
- Так там село боялось, что у него, у крестьянина, не будет работы, все обойдется техникой. Вымрут, - возражаю грамотно.
- А тут все мало-помалу прикипят к видео-ящику и сами бросят работу. Или будут на службе сонными мухами, без интереса… Тоже упадок в стране, - доводит Витя мудро.
- Оригинально. Но слишком.
Глупо ли, умно ли, но дела у постановочного коллектива до шестнадцати часов не было. Отпустил. И получил замечание от сопущего в нос и вздыхающего директора:
- Вы того… распускаете дисциплину. Заняли бы чем-нибудь.
- Будут сценарии, займу.
- Это вам не интересно – сценарии…
- Так люди же с шестнадцати до двадцати четырех будут репетировать и выдавать в эфир материалы.
- Шо? Ага… Посмотрим, что оно получается.
Другой раз, после обеда, когда молодые редакторы отдыхали за шахматной доской и попахивали пивком, я выразил удивление:
- Не рано ли принимаем на плечо?
Надо мной посмеялись:
- Мавры свое дело сделали. Тексты у начальства и в цензуре. Еще есть вопросы?
- Я про выпивку в полдень.
- А кто выпивал? Не наводите тень на плетень.
Это уже была наглость. На первый раз я ушел. Пришлось уйти на второй и третий разы и по многим другим поводам. А еще приходилось всех подстраховывать. Посидеть, вместо опаздывающей ассистентки за пультом, перетасовать видеоряд вместо помощницы, которая по какому-то домашнему поводу плакала и не видела изображение сквозь слезы. Как-то вечером рабочий сцены до того перебрал, что спал в углу студии сном Ильи Муромца. Я его выгнал и… четыре дня собственноручно таскал ставки и оформлял студию.
И так с начала шестидесятых.
Закончу одной фразой: я упустил власть и стал мальчиком для битья.
* * *
История постановки
В мое время творческие находки пробивались к обывателю куда труднее, чем научные или философские открытия.
В начале шестидесятых я уже два года пребывал режиссером телестудии. Дошел, что творческие люди тут не нужны. Писцы списывают с газет постановления партии и правительства, иллюстрируют их местными, обязательно небывалыми успехами. В кадр садятся вышколенные и прилизанные «говорящие головы» и… Я чувствовал, что зарплату получаю ни за что, а прикладывать руки не к чему, не умею и сильно не хочу. От безделья сделал открытие. А что если поставить спектакль сугубо телевизионный. Что это значит? Это когда расчет на одинокого умного человека в его собственной комнатушке. Поговорить с ним от души, в полтона, на интиме. Да ни слова из тех трех сотен суржика, что в обиходе пропагандистов. Да с мыслями, близкими обывателю, трогающими его. Пусть не социальными, пусть лирическими…
Прохиндейка, секретарь директора Ляля – принесли мне очередной сценарий. Но какой! Выписанные диалоги из рассказа «Ночной дилижанс» Паустовского. Только экспозиция и завязка. Дальше включилась моя убогая фантазия и я дописал… А ухватился за материал потому, что именно в нем я мог воплотить свое открытие. Я задумал репетировать сцены с каждым исполнителем в отдельности, так чтобы до спектакля актеры не видели друг друга. Потрясающее впечатление отразится на их лицах от рассматривания и интереса, от познания друг друга.
Вот суть рассказа.
Середина девятнадцатого века. Из Венеции в Верону отправляется ночной дилижанс. В нем три девчонки из пригорода, ясноглазые и притомленные, католический священник и, по воле печального случая, – достойная молодая дама Елена Гвиччиоли. Моросит дождик, возница недоволен всем и вся, даже огарок свечи погасил из соображений экономии. Предстоит долгий и скучный путь. Но последним в дилижанс садится высокий, костлявый мужчина, лицо которого во тьме е разглядеть. И когда дорога вконец утомила и надоела, этот господин заговорил – и превратил удручающе печальную ночь в ночь очаровательных сказок, наполнил души пассажиров чувством жизни и предчувствием ясного будущего.
Как очаровать зрителя статичными фигурами, полутемным чревом дилижанса, редкими голосами девчонок, священника, Елены и длинными монологами господина?
Но господином средних лет оказался Ганс Христиан Андерсен! И вот тут режиссер должен подняться на уровень обаяния и вдохновения великого сказочника. Как? Как!?
И как выразить последнюю встречу Ганса и Елены уже в Вероне, в доме красавицы? Ведь бедному бродячему поэту предлагалось все: любовь, достаток, избавление от кредиторов. А он отказался. Ведь он из тех, кто предается чувству до конца. А от великой человеческой любви, разобьется и улетит прочь рой его великих сказок. Кем он будет тогда?..
Думай, парниша, думай!
Но ангел всегда стоял у меня за плечом. Я познакомился с артистом, который только приехал в Николаев, коллеги его не видели. Это был Василий Кузьмин.
Мы вместе прочли сценарий.
- У нас не Киев, мы не имеем видеомагнитофонов. Потому спектакль пойдет впрямую. И тут психологический ход. Принято считать, что самое яркое впечатление на человека производит, скажем, разряд грозы над головой или трагическая телеграмма… ну, половой акт. Заблуждение. Самое яркое и проникновенное впечатление производит первое знакомство. Особенно с гением… До первого включения камеры вы не будите видеть своих партнеров. Они вас тоже. – И подняв ладонь на его округлившийся взгляд, я заторопился: - На репетициях вашим партнером буду я. Я – священник, я – все три девушки, и, самое трудное, я - Елена Гвиччиоли. Никто из участников спектакля, до включения в эфир, ни разу не увидит друг друга. И вот на этом интересе лица к лицу мы сильно подогреем загадочные рассказы Андерсена…
Эту пыльную, не мытую с потемкинских времен пекарню кораблей не случайно величают городом невест. Пройдешься в один конец по центральной улице – встретишь три или даже пять красавиц непременно. Я мог выбирать.
С Ниной Трояновой разговор был прост: Васю Кузьмина не знаешь? Пока нет. Годится..
И вот я репетирую поздними вечерами с одной Ниной, с одним священником, с девчонками.
Художник Клиш по быстрому «разжевал» мою затею и соорудил удобный салон дилижанса с трепаной бахромой на окошках и подсвечником в углу. Поставил ящик на толстые шины с грузовика и тренировал пьяного дядю Ваню, как покачивать, менять ритмы движений и покрякивать вместо втулок в колесах. О костюмах я договорился в театрах По отдельности спектакль был готов. Я вспоминал покойного Рене Клера: фильм готов, осталось его снять.
Вошел весь на подъеме в кабинет главного редактора и тут обессилел, плюхнулся на стул против кресла хозяина и выдохнул:
- Ставьте в программу. Мы готовы.
Он заулыбался:
- Да, да, вы говорили о дне и часе. Я уже посылал текст в цензуру. Значит, суббота. Надо в пятницу, между репетициями мелких передач и выходом в эфир, эдак с четырех до шести по полудни показать начальству работу.
Я, наверное, вскочил, даже прыгнул в сторону, или уложил мат в три этажа, потому что мой коллега выкатил глаза и встал с места.
- Что с вами?
- Я вам говорил! Спектакль – экспромт. Его можно показывать только раз и прямо в эфир.
- Не говорили.
Он, видимо, врал. Но я уступал этому:
- Простите, закрутился. У меня артисты, ну, их персонажи впервые увидят друг друга уже в действии.
- Совсем сбили с толку. Как это? По вашему Станиславскому, лучший экспромт это хорошо отрепетированная вещь.
- Но то театр, а это телевидение. Новые возможности. Объяснить за час трудно то, что я придумывал и делал неделями.
Никитич успокоился и сел.
- Садитесь и вы и успокойтесь, - сказал он мне с легким вздохом. - Вы, театралы, люди одаренные, но легкомысленные люди. Один нечистый знает, что вы отмочите в кадре, а тут ответственность.
- Вы текст завизировали?
- Да, но в игре ваши девочки могут задрать юбки, а мужики в споре по сути могут такой экспромт загнуть, что святых выноси. Поверьте, я, как никто заинтересован в показе спектакля, но существуют положения…
Что он плел дальше, я не слышал. Дошло только последнее:
- Это решить может даже не директор. Он трус, я на него никогда не полагаюсь. Решить может только глава телерадиокомитета. Поторопитесь к нему, на Адмиральскую…
И дальше я не слушал, выскользнул из кабинета побежал по коридору, потом вниз, потом на улицу и – на Адмиральскую.
В нормальных учреждениях главные специалисты решать деловые вопросы ездят в служебных машинах. У нас же главный режиссер бегает по городу на своих двоих. Хорошо бы в один конец. Увы! Я проделал кривой путь к обкому партии, справился у вахтера, не проходил ли?.. Нет. Еще крейсировал между вотчиной комитета и его обиталищем, в надежде вечером перехватить.
Уходил рабочий день, мужики толпились у пивнушек. Я зашел в подвальчик, выпил малый бокал пива – не легчало. Водки бы, но на такое мои карманные деньги не рассчитаны. Сел на каменную оградку сквера и Бог знает сколько просидел.
Со стадиона повалил народ – кончился матч. Виновато, как-то бочком в свой переулок свернул наш глава комитете. Я опрометью бросился наперехват, чуть не сбил старика. Он был выпивши и все пытался обойти меня.
- Вы тоже болельщик? – Это он на уходе.
- Нет, ожидал Вас.
- Что-то важное?
- Да. Нужна Ваша помощь. Позвольте отменить завтрашнюю сдачу спектакля.
- Что за необходимость?
Меня понесло теми же словами, что в кабинете редактора, потом градус моей речи поднимался до надрыва. Понял ли чинуша, повторить ли ему? Понял:
- Оставьте. Как же без общественного мнения? Вы новый человек…
- Я Вас нижайше прошу.
- Не паясничайте. Рядовая работа. Ваши творческие выходки только закрепятся на сдаче.
- Нельзя этого делать. Может быть, самая свежая находка телевидения пропадет всуе!
- А Вы скромный человек! Думаю, разговор окончен.
- Я Вас так не отпущу!..
Тут начальник вспыхнул:
- Вам не о выдумках сейчас надо бы… а о том, как заслужить… чтобы Вам, наконец, предоставили жилье. И вообще, как бы научиться работать.. руководить режиссерской группой.. И с моральной точки… слухи по студии гуляют… Секретарей директора… Лялю… осаждаете…
Теперь вспыхнул я. Я забыл о спектакле, о каторжных трудах своих, о крушении моего лучшего замысла. Важна была сиюминутная правда.
- Вам ли судить о моей морали? Где я Вас перехватил? А рабочее время, выпивши, сидели на матче…
- Клевета! – рыкнул Корж начальственным голосом. – Завтра же сдача… Прощайте!
Я тут же сломался.
- Да, да, Вы правы. Я клевещу! Это нервное… Ради Бога, отмените завтрашнюю сдачу. Это же в Ваших силах. Вы будете соавтором нового открытия в телевидении. Я всегда буду помнить Вас…
- Прощайте!
И мужик, преисполненный гнева и высокой правоты, потопал вниз по ступеням. Даже не оглянулся.
… В пятницу, в шестнадцать, ноль-ноль, я сидел за пультом ввинченный в кресло, в пол, во все коммуникации, что сплетались под полом. Я был покойником. За спиной выросла надушенная, подрисованная, приодетая и чертовски желанная Ляля. На жаргоне нашего Лагерного поля она шепнула:
- Будь спок! - И обошла меня со всех сторон, виляя своим лепным задком и прядя полами цыганской юбки.
Через считанные секунды девушка, лучше, ведьма с Лисой горы, стояла у парадной двери изнутри и дарила улыбки всякому входящему. А гостей было, как говорила моя бабушка, из всех волостей. Многих я уже знал. Три журналиста из трех газет, заведующий крупнейшим универмагом, дюжина активистов из комсомола и профсоюза, полдюжины студентов, известных победами на союзных олимпиадах. Ближе - какие-то расфуфыренные дамочки средних и старше средних лет – известные сплетницы, судя по нескончаемым их перемолвкам и загадочному смеху. Еще - весьма странные мужички в дорогих и безвкусных нарядах. В обширном вестибюле стоял большой монитор. И тут коронка! Порог переступил двузвездный генерал. Белокурый, голубоглазый и молодой в свои пятьдесят пять лет; поздоровался с Лялей кивком, да так, что девушка томно потянулась, как в объятиях.. За генералом вошел идеологический бог, наш благодетель и наше пугало – третий секретарь обкома партии, идеологический маг ….
Только расселись генерал и секретарь, начальник дал отмашу мне, потом я, глухо, совсем не так, как я это делал в радостные мгновения, щелкнул пальцами – и повело.
… Поросший щетиной, похожей на перья, возница с подбитыми ватой желваками грубо подгоняет девчонок. Одна под свихнутым зонтиком, другая под капюшоном, третья с открытыми и спрыснутыми волосами. Из тьмы грубияна урезонивает мягкий, сочный баритон и длиннопалая кисть отворяет дверцу в чрево дилижанса. Все три грации сбиваются на заднем сиденье. Напротив – ряса и пухлым блином лицо с маленькими глазками, католический священник. Сгорбилась, вошла и распрямилась сидя длинная фигура странника. Как-то суетливо, не по дорогой и пышной одежде виновато, напротив усаживается прекрасная молодая дама. Только ее и можно разглядеть под бликами свечи.
И дальше скука. Едва слышно моросит дождик, до тошноты однообразно шлепают разбитые копыта по грязи. Если бы мы видели топающих коней и жалкие капли дождя, нам было бы сказано все. А тут, увы – дорисуй картинку сам. Ведь в каждом из нас сидит художник. Если бы люди в дилижансе знакомились и выдали ту часть обычной правды, которая не опасна, нам было бы достаточно информации и думать дальше не о чем. Но в эту ночь скука и томление зародились в пространстве, а далекая, не каждому слышная мелодия Скрябина добавляла мучений. Так было бы всю ночь.
Было бы, если бы Бог не послал спутником Ганса Христиана Андерсена.
Сказочник принялся врать. Он видел, как в Далекой Лаплпдии девчурки прямо в поле, под ногами, находили ленты, конфетки и еще Бог знает что. А мудрый дядя уверил малышек, что все эти прелести для них спрятали гномы. А сам рассказчик - прекрасный принц из той страны, где живет сказка, и, и…
Его хотят видеть, разглядеть, понять, кому принадлежит этот вкрадчивый и чистый голос. Освещение бликами и лишь на мгновение освещает часть его лица, кисть на трости, шейной платок. И разгорается истинный интерес к человеку. Каждый персонаж жаждет увидеть таинственного спутника, а каждый исполнитель силится разгадать, с кем же это он играет новеллу. И тут по-настоящему срабатывает режиссерский ход. Глаза впиваются, лица горят, вопросы и расспросы до того проникновенны и искренны, что игра забылась, давно забылась. Люди впитывают друг друга, любят уже потому, что они люди… И исподволь чувствуешь, насколько излишня, не нужна правда. Тут уместна молитва своими словами и тут же, для тебя одного, высказанная сказка. Мучительная ночь постепенно превращается в очаровательный, легкий, незабываемый и блаженный сон.
… Прекрасная дама влюбляется в спутника, приглашает его в свой богатый дом, предлагает жить у нее, с нею. Увы маэстро отказывается. На его лице расцвел испуг и растерянность. Что-то необъснимое, крайнее смутило его душу. Он предпочитает оставаться странником и сказочником. Он красиво, как-то не совсем искренне, но окончательно уложил в слова свой отказ: о любовь к женщине разобьется и улетит рой его сказок… А что он без них!..
… Закончилась сказка, экран погас. Постояла пауза. Раздались аплодисменты.
Секретарь обкома, генерал и пышная дама пожимали руку главе нашего комитета, как ведущему творцу маленького чуда. Он отмахивался, плел под себя:
- Да что Вы… рядовая работа…
А я сидел все так же привинченный к креслу, переваривал мою драму.
А тут еще легкое дыхание сзади, в ухо, Лялино:
- Вы сегодня Зевс.
Курва, под самую ложечку достала. Я даже не ощутил, как мне, походя, пожали руку идеологический бог и Лялин генерал. Вернулся я в жизнь только, когда сильные нашего мирка отошли, а интриганка, приостановившись, ткнула в мой бок мизинцем. Я выдавил из себя:
- Трудно быдь богом, когда ты раб. Я боюсь вечернего спектакля.
И не зря боялся. Вечером праздник не получился. Исполнители устали от напряженного внимания, в перерыве перезнакомились и поняли, что не боги они друг для друга. Даже не Андерсены и Елены…. Вместе они перекусывали в буфете, небрежно протирали рты, кто салфеткой, а кто и рукавом, икали. По очереди ходили в наш единственный туалет…
Главное же, вечером сработал эффект второго спектакля. Как на всех сценах мира, так и на экране телевизора – пережеванное не вкусно. А отрабатывать профессионально мы не умели, и никому это не нужно было.
Домой я шел один, во тьме, под битыми фонарями.
За углом, на Рюмина, я наткнулся на черную «Волгу», потом на изящную спинку Ляли и, обходя ее, не желая видеть, чуть не врезался в высокую грудь двузвездного генерала.
- Извините,- прошептал я, морщась, избегая разговора.
Но молодому старику хотелось сказать что-нибудь светское, может быть, заурядно молодцеватое, может быть , покрасоваться перед своей пассией. Он перекрыл мне дорогу теплым жестом. И выдал сведения, совсем не обязательные для солдафона. Скорее, присущие образованному хаму:
- А Вы облагородили датского сказочника. Не был он столь степенным и чопорным. Он был... весьма нетрадиционной сексуальной ориентации.
Мало того, что сильные мирака нашего погубили мой творческий замысел. Они еще и убили во мне чистое детское чувство Ганса Христиана Андерсена.
* * *
Грехи тяжкие
Фома Аквинат открыл пять доказательств существования Бога: первопричина движения; первопричина всего сущего; гарантия реализации потенции всего живого; тяга к совершенству, к Всевышнему; гарантия целесообразности. Разумеется, если я правильно понял старого богослова.
Мой старший пастух Назар добавил шестое: существование самого деда Назара и его стада – только Бог мог сочетать две столь редкие субстанции.
Писатель Булгаков предложил седьмое: существование дьявола.
Я был причастен к восьмому. Не могу сказать, моя история доказывает существование Бога или дьявола... и вообще доказывает ли она что либо… Судите сами.
Со студенческой скамьи я попал в творческую сферу, которая сама тогда еще и не была сферой, а творческой не стала до сих пор – это телевидение. Младенец только-только пробовал встать на ножки. В столице нашлось полдюжины смельчаков, кто на ощупь и методом тыка лепил программы с живыми людьми и пейзажами, насильно втискивали в крохотные кадры произведения кино и театра и громко называли такие трансляции (транзиты) чужих вещей своим искусством. Новое искусство!
Смешно и стыдно. Я был фрондером отродясь: беглый кулак - мой предок, а еще православный вероучитель подпасков дед Назар, само житье-бытье в глухой деревне, да и в столичном фривольном театральном вузе соорудили мои весьма невысокие и подозрительные представления о нашем обществе во всем его объеме. Тот же сомнительный взгляд на новый вид творчества, как следствие. Все фальшь и подмена понятий, следовательно – порок. Но я увлекся телевидением как возможностью интимно, ненавязчиво, в полтона поговорить с нашим приглушенным, закупорившимся, зомбированным, по-детски плутоватым человечком. А уж смотреть и слушать меня он будет: крохотный электронный ящик в комнате, а в нем движется и глаголет жизнь - удержит при себе даже человека с умом, а уж простака и подавно.
Держался я за «новый вид искусства» еще и потому, что вышки и студии по стране росли грибами под теплым дождиком. Специалистам давали квартиры, а меня, нагловатого и ловкого плагиатора от литературы, режиссуры и других выдумок, после малой практики назначили главным режиссером в Николаев.
И вздумалось мне все пропагандистские программы, ради которых партия, собственно, и тратилась на вышки и студии, пропускать походя. А делать спектакли «для крупного плана», то есть выбирать пьесы с мудрыми беседами о мире и человеке в нем, об истинных чувствах - правду, одну только правду и ничего, кроме нее. Правда давно уже стала дефицитом в прессе и на радио, потому я получал шанс выдвинуться. Периферийное начальство не знало, какие авторы из-за бугра у нас на театре не рекомендованы, отечественных смельчаков тоже можно было протаскивать, поменяв названия и подсократив или оговорив от себя детали. Компилировать, да и присочинять, мне было дано. Вот и пошли: Морис Уэст, Эдуардо де Филиппо, Джон Пристли, а если и Коцюбинский, то уж такая изнанка, как «Persona grata», или татарская и молдавская экзотика с горьким привкусом истины.
Десять лет мне везло. Своим чередом шли пропагандистские материалы и ура-патриотические информашки, а я делал свое. Рейтинг студии возрастал. По релейной линии шли мои поделки на обе столицы, меня признали зрители, мне прибавляли категории… но только до первой (не высшей) – беспартийный я и непонятный человек.
Но вот к нашей студии стали приближаться люди кондовой выделки: выпускники Центральной партийной школы. Лет пять я подтрунивал над ними, называл выпускниками церковно-приходской школы. Их забирали в газеты и в инструкторы обкома партии. Там они росли в должностях и могли вмешиваться в мои забавы.
Тот, кто погубил мою карьеру, приблудился в студию случайно.
В семидесятых годах пишущая машинка была действенней, чем теперь компьютер, а ушлая машинистка ценилась не ниже менеджера, правда, не по зарплате. И таковой не хватало студийному руководству. Огласили нашу нужду. Пришла одна серая мышка, писала спринтерски, но и ценила себя слишком:
- Возьмете кем-нибудь моего мужа, приду. А за нет – суда нет.
Привела супруга. Чистенький, бедненький, слегка сопит, путает правое с левым. На обращение к нему реагирует замедленно, с видом: чего это от меня хотят? Отвечает на суржике и вместо «ф» у него звучит «х» и наоборот. Чуть ли не из-за пазушки достал диплом филолога, да университета и еще - городскую прописку. Боже! Профиль приблизительный, но похож на всех сотрудников, и начальству не надо думать о жилье. И машинистка - в кармане. Глава телерадио согласно кивнул и посадил его в редакцию новостей принимать телефонные звонки с глубинки.
Походя, поговорив с новичком раз и два, я понял, что «коллега» пригоден, в лучшем случае, томить своими хрестоматийными знаниями разве что восьмиклассников. А в моей крови сильна жилка приспособленца. Скажем, я активно опекал молодого осветителя, громогласно делился с ним познаниями, как бы выступая наставником, только потому, что сильно боялся его отца, парторга студии – я-то беспартийный и вдруг – номенклатурный. Допущен был я как чрезвычайный случай в той жизни, недосмотр или вынужденная и временная мера, пока вырастят партийных специалистов.
Так вот, чтобы не тратить любовь на всех, я дурно повел себя с новичком Имярек. А тут еще попал к нему в необъяснимую зависимость.
Моя сильно неумная пассия позвонила мне на квартиру в обеденный перерыв. Патологически ревнивая моя супруга передала мне трубку, а после моих растерянных «бе и ме» придралась:
- Что это за сие!?
Я ляпнул несусветное:
- Супруга нашего нового сотрудника.
У моей благоверной прокурорские замашки:
- Что ей надо?
- Ну, ее муж страдает болью в ступне. В больничку прилег, провериться. Моя очередь навестить его от коллектива, а я не знал, где он… она подсказала.
- Навестим вместе, - чутко заявила супруга.
От ее чуткости у меня потемнело в глазах. Хорошо, что соврал я только наполовину: Имярек и вправду на недельку лег в больничку. Сходили, передали банку варенья и что-то еще. Говорили, кто в тын, кто в ворота. А расстояние между душами увеличилось. Новичок принял мой визит за душевность, а я от подлости своей и стыда невзлюбил его окончательно. Когда к моему дню рождения он принес в подарок двухтомник Толстого, я втихую передал его супруге деньги за книгу. Что-то между нами треснуло со звоном.
Имярек был туповат. Два года слушал по телефону реляции председателей колхозов, школярским запасом фраз записывал их. Но верен был партии и правительству до чертиков: в эфире его информашки начинались неизменно: «Выполняя решения пленума»…. «Идя навстречу съезду»... И наш глава конторы, который был с «коллегой» – два сапога пара, поднял его до старшего редактора новостей. Объяснил просто:
- С его ногами в далекие села не поедешь. А собирать в кучу материалы он научился. Все равно их вычитываем: и главный редактор, и я, и цензор – дурь уберем.
Еще год спустя на студию пришла разнарядка – один человек в Высшую партийную школу. Тот же глава телерадио при мне рассудил:
- Наш Имярек не тянет. Пошлем на два года, а там, с Божьей помощью, с его новым дипломом, может, заберут от нас куда-нибудь редактором районки…
А через два года секретарь обкома партии заявил:
- У вас единственный человек с дипломом ВПШ, назначить его главным редактором студии. Кстати, у вас прежний главный проворовался – заменить!
Вот так я, глава постановочной группы, получил в пару себе главу от журналистов. И еще больше презирал положение дел в студии и в стране.
Подшучивал, пользуясь умением писать чуть забористей, чем сей графоман, допускал безобидные козни. Но я стоял на месте, а «коллега» рос в карьере.
Комедия! Прошли годы, он в совершенстве овладел дюжиной командных фраз, манерой весомого сидения на летучках и прибавил пару сотен слов в скудный свой арсенал. А тут ушел на пенсию прежний директор. Окончательно обленившийся и припугнутый переменами наверху обком партии, страшась притока новой крови в идеологическую организацию, машинально перевел нашего главного редактора в директоры - ротация, ничего не поделаешь.
Я пуще стал презирать Имярек как порождение и орудие однопартийной власти. Позволял себе едкости и глупости по его адресу. Иногда хамил выше меры. Скажем, в перерыве, как обычно, я резался в шахматы с известным перворазрядником. Повезло, закончил партию комбинацией и матом. Кучка зрителей ахнула. Стоявший среди болельщиков директор, полагая, что я чего-то стою в спорте, почитая меня и слегка заискивая, сказал:
- Вот это мысль!
Я же в раже от победы над лучшим шахматистом студии и всего околотка совершенно беспардонно ляпнул:
- Это вам не студией руководить. Тут надо голову иметь.
Даже его крестьянское терпение дало трещину. Уходил он за малой толпой по кабинетам последним, его обычно натужные шаги совсем отяжелели.
И угораздило же меня всего неделю спустя зайти в кабинет его и сказать:
- Вы пришли значительно позже меня в студию. Не знаете, что семь первых лет я был единственным специалистом… что за двадцать лет я поставил более двадцати спектаклей и никто по всей периферии страны этого не смог сделать вообще… я написал работу по теории телережиссуры, причем в художественной форме, ее издали в Киеве… теперь опекаю каждого молодого и немолодого. Сам веду художественные программы.. и все сижу на первой режиссерской категории. А все мои однокашники на других студиях показывают «говорящие головы», снимают «трактор спереди – трактор сзади» и давным-давно уже все получили высшую категорию. При встречах они показывают на меня пальцем.
Чем дольше я говорил, тем стылей и отчужденней становилось лицо директора. Потом щеки его стали краснеть, глаза уходить в сторону.
- Все это не то. У нас идеологическая организация. А в пропаганде у вас нет фантазии…
Я вспылил:
- Вы ясно скажите, подадите в республиканский комитет документы или…
- Я повторяю…
- Не надо повторять…
Я вышел раскаленный. И решил завязать со всеми сложными постановками, покончить служить всем дыркам затычкой, решил держаться подальше от руководства, вообще вздремнуть на работе. Стал пассивным до чертиков. Никто не поинтересовался переменами в моем характере, никто не позвал и не спросил: парень, да что с тобой?..
Вместо того меня отправили в Киев на двухмесячные курсы – а это было четыре месяца спустя после Чернобыльской трагедии. Я там сипел горлом, держался за виски от зуда в голове, нервничал, но будучи невеждой в медицине, не предполагал, что даже малая радиация мне противопоказана.
В столице меня морило физическое состояние, а в родном городе готовилось вообще неожиданное.
В мое отсутствие грянули перемены. В большой стране – переворот за переворотом и страхи боссов утратить влияние на массы… На телевидении нововведения. Появился указ: в течение не помню какого времени переизбрать творческую группу. Меня, уже опытного, с кучей дипломов и признанного товарища, включили в кастинг или люстрацию, черт знает, как называло все это тупое руководство, – указ полгода спустя отменили как странный и вредный.
Мой Имярек по одному приглашал в свой кабинет сотрудников, кое-что обещал, задабривал и рекомендовал войти в комиссию из девяти человек, чтобы проголосовать против меня. Ведущие специалисты отказывались. Но рядовые товарищи, которым пофигу, кто я и что я, но помнились мои нагоняи и слышались директорские обещания, шли на тайную сделку.
Я вернулся, ко мне сразу же зашла старшая из ассистентов, дословно все изложила и сказала, чтобы я не обижался: она согласилась голосовать против меня, так как ей обещано повышение перед пенсией, а у нее внуки…
Мне стало крайне интересно: как со мной расправятся.
Аутодафе надо мной благословил новый глава комитета телерадио, исполнение поручил директору, и тот пригласил уполномоченный синклит к себе в кабинет. Две ассистентки, один корреспондент, два оператора, почему-то секретарша председателя, присяжная с незаконченным средним образованием, и совершенно новый спортивный обозреватель с радио, который не успел мне и в глаза посмотреть. Естественно, во главе стола сам Имярек и новый главный редактор. Директор и главный редактор между собой договорились не голосовать против меня: вдруг бывалый мужик (то есть, я) поднимет шум, дойдет до областного начальства, там вспомнят мои несравнимые с обвинителями заслуги и… Решали мою судьбу шавки. Одному непонятно было, как это меня приглашают театры на разовые постановки и я иду. Доказывая, что я всего лишь работник студии и на сей алтарь все свои силы обязан тратить. Другой здорово ударил: в последний год я ничего не делаю, только разъезжаю по столицам. Третий справедливо упрекнул меня в несдержанности на репетициях… Пересказывать скучно, я ждал, как исполнится затея «коллеги». Проголосовали все семь против меня. Только директор и главный редактор – за. Но решает народ!
Я мог бы до начала заседания разогнать шайку-лейку, было такое положение в указе: если «подсудимый» не согласен с составом «суда», то суд меняют. А в студии не нашлось бы еще и двух человек, которые подняли бы руку против меня. Можно было, но на меня навалилась вся усталость двадцатипятилетнего служения глупейшему делу зомбирования христиан, осознание однообразия труда, понимание, что свою отдушину – телеспектакли я делал в нерабочее время, на износ и без дополнительной платы, а начальство роптало: тратит силы черт те на что, протаскивает абстрактный гуманизм… Я молчал, поглядывая на ораторов. Потом коротко охарактеризовал каждого с полной выкладкой их малой состоятельности и ушел.
Дома настроение мое изменилось. Жена спросила:
- У тебя не найдется сотни, завтра базар.
У меня не было сотни, у меня никогда не было карманных денег. Я вкалывал от зарплаты до зарплаты, а семья едва сводила концы с концами. Я вдруг понял, что послезавтра, в крайнем случае, через неделю на кухню можно не входить: еды не будет. Тут же возник вопрос: за что меня уволили? И вся несправедливость малого, пусть отобранного коллектива, свалилась на меня кулем весом в тонну. Про свою греховную несправедливость по отношению к «коллеге» я забыл – все мы люди, к тому же с перешибленным нравственным хребтом.
Можно подумать, что мое изгнание и есть восьмым доказательством существования Бога. О, нет! Весь долгий остаток моей жизни душа моя страдает от последствий. И в них я не нахожу Бога, скорее, присутствует мстительный дьявол.
Первые полтора года были паническими: я без работы, супруга - на полставки, тещу пришлось забрать из деревни по болезни. Сын сбежал за границу, а это было еще время коммунистов. Ему угрожали органы: привезем тебя в грузовом отсеке самолета, сгниешь в Сибири, а дети твои сгниют за бугром!.. Потом меня подобрал театр, хоть и на птичьих правах, но с такой-сякой ставкой. С приходом независимости меня стали печатать и издавать; сын хорошо устроился в зажиточной стране… То есть я вернулся к той норме недостатков, с которыми мирился с детства. Мне хорошо. Но стали приходить сведения…
Менее полугода после моего изгнания прямо на стадионе, во время матча, от сердечного приступа умер спортивный обозреватель, тот самый молодой человек, попавший в мои судьи как кур в ощип. Полтора года спустя на коротком обеденном пикнике подавился беконом председатель комитета, благословивший мой угон. Вскоре опасно заболела одна из ассистенток, а о другой стало известно, что ее климакс затянулся на многие годы и кровотечение не прекращается. Корреспондент, осудивший меня за то, что я подрабатывал разово в театрах, получил сильнейший инсульт, уволен и еле дышит, а оператор, крепкий и красивый, еще флиртующий подстарок, умер от сердечной недостаточности. Даже совсем молодая секретарша пострадала: муж уличил ее в связи с водителем шефа и отравил ее жизнь навсегда, во хмелю избивал.
Самое жуткое случилось с коллегой, то есть с директором. Тупая власть подняла его на должность главы областного телерадио, а партия злодеев выделила ему огромный оклад содержания. Живи и радуйся! Но вот на этом пике везения умерла его жена, уехала дочь… а болезнь его ног переросла в гангрену, он перенес несколько операций, годами мучился, лежал одинокий и почти забытый, плакал и спрашивал у редкого, навестившего его запущенную квартиру сотрудника: за что?
Рано умер.
Я живу, мне восемьдесят четыре года - и тревожных болезней нет. Но я с каждым годом чувствую свою вину перед всей студией: у истоков конфликта и ненависти стоял ведь я. Я! Думаю о себе и о таких, как я. Что это за натуры – мы, обыватели? Не радуемся малому, не любим ближнего... Ведущее и повальное чувство наше – зависть, да с примесью ненависти… Где же тут Христос с его любовью к ближнему?
Моя коллизия - доказательство нашему несовершенству, даже отказу от стремления к совершенству. Какое уж там рассуждение о шестых-восьмых доказательствах существования Всевышнего! Тут – первое доказательство существования дьявола.
Прости меня, Господи!
* * *