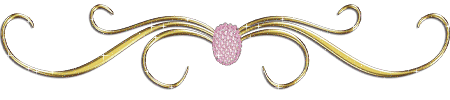Евгений Альбертович Куцев
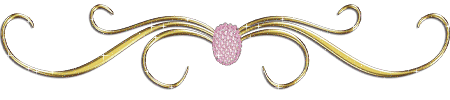
Ракушка
 Если кто-то с серьёзным видом, да ещё торопливо, сбиваясь и захлёбываясь от волнения, начнёт рассказывать вам нечто совершенно неправдоподобное, то вряд ли у вас хватит терпения дослушать рассказчика до конца. А если и дослушаете, то в конце махнёте рукой, скажете: сказки всё это! – и пойдёте по своим делам. Другие, послушав, ответят: ерунда, не верю. Или так: ой, кому угодно рассказывайте, только не мне. Знакомая ситуация. И настолько всем и повсюду знакомая, что у англичан даже поговорка появилась – «расскажи это моряку». А моряки-то тут при чём? – спросите вы. Они, что, - самые доверчивые? Или фантазёры несусветные? Ни то и ни другое, - отвечу я. Дело в том, что, пожалуй, никому, кроме моряков, за долгие годы работы и плавания по дальним морям не приходится так часто сталкиваться с удивительными и порой необъяснимыми вещами и обстоятельствами. Отсюда и множество рассказов: рассказов достоверных и не очень, рассказов, похожих на вымысел, на сказку, рассказов явно приукрашенных или заведомо фантастических.
Если кто-то с серьёзным видом, да ещё торопливо, сбиваясь и захлёбываясь от волнения, начнёт рассказывать вам нечто совершенно неправдоподобное, то вряд ли у вас хватит терпения дослушать рассказчика до конца. А если и дослушаете, то в конце махнёте рукой, скажете: сказки всё это! – и пойдёте по своим делам. Другие, послушав, ответят: ерунда, не верю. Или так: ой, кому угодно рассказывайте, только не мне. Знакомая ситуация. И настолько всем и повсюду знакомая, что у англичан даже поговорка появилась – «расскажи это моряку». А моряки-то тут при чём? – спросите вы. Они, что, - самые доверчивые? Или фантазёры несусветные? Ни то и ни другое, - отвечу я. Дело в том, что, пожалуй, никому, кроме моряков, за долгие годы работы и плавания по дальним морям не приходится так часто сталкиваться с удивительными и порой необъяснимыми вещами и обстоятельствами. Отсюда и множество рассказов: рассказов достоверных и не очень, рассказов, похожих на вымысел, на сказку, рассказов явно приукрашенных или заведомо фантастических.
Но, чтобы не подталкивать вас к полному недоверию и не восприятию подобных рассказов, приведу всего лишь один любопытный факт: знаменитый кардинал Ришелье, имея на то основания, в беседах любил повторять фразу «не судите опрометчиво». Совет исключительно разумный. Последуем же ему и в нашем повествовании.
История, предлагаемая вашему вниманию, родом из порта Лас-Пальмас, что на Канарских островах, а точнее – из небольшого уютного кафе с прилегающей к нему открытой верандой и тентом над тремя – четырьмя обдуваемыми морским бризом столиками. Кафе располагалось в одном из самых последних домиков перед входом на территорию порта, и,возвращаясь на судно после прогулки по знойным городским улицам, многие моряки делали тут остановку, заказывали прохладное пиво или чашечку кофе, позволяли расслабиться ногам, да и не только ногам, а, пожалуй, и душе и мыслям перед тем как подняться по трапу на борт и окунуться в знакомую, не позволяющую шагнуть за пределы палубы работу.
Точно так же поступили и мы. Сидя втроём за столиком с откупоренными бутылками пива и блюдечками с мелкими кусочками пряной рыбёшки, мы наслаждались тенью, разглядывали колыхающиеся края тента, стойку бара, которая витриной глядела на улицу, выставку бутылок и коллекцию морских ракушек вперемешку со всевозможной морской атрибутикой, выставленную на полках за самой стойкой. Осознание того, что завтра и этот столик, и кафе вместе с портом, городом и самим островом останется позади, далеко-далеко, на громадном от нас расстоянии, придавало последним минуткам нашего отдыха особую, с налётом лёгкой мечтательности и грусти, мягкость.
В этот полуденный час, кроме нашей компании и хозяина-бармена, одновременно исполняющего и обязанности официанта, в кафе за соседним столиком веранды находился единственный посетитель, старик в причудливой одежде, сосредоточившийся над какой-то снедью на широкой тарелке. Старик был в светлых шортах и молодёжной, не по возрасту, футболке навыпуск, новых сандалиях на босу ногу, с чисто выбритым опрятным морщинистым лицом, тёмно-коричневым, как и всё тело от долгого пребывания под палящим солнцем. Сверху на плечи у него был небрежно наброшен казавшийся абсолютно неуместным в сочетании с прочей одеждой потрёпанный и полинявший, но чистенький морской китель без погон с тусклыми медными пуговицами, на которых едва можно было разглядеть якоря. Пара пуговиц на кителе отсутствовала, как не было и остатков ниток, некогда державших те самые, утраченные пуговицы.
В центре столика, за которым сидел старик, за тарелкой, стояла крупная, вычурной формы морская раковина. Старик ел, неспешно поднося ко рту ложку за ложкой, и при этом неотрывно, не моргая и не наклоняя головы, глядел на ракушку.
Мы также не особенно были ограничены во времени, поэтому лениво перебрасывались ничего не значащими репликами и глазели по сторонам.
- Ракушка красивая. Не встречал такой,- заметил один из моих спутников.
- Которая? – мы сделали движение, поворачиваясь к стойке бара.
- Нет, не там. У старика на столе.
Все морские раковины красивы. Многие формой и окраской напоминают дивные тропические цветы. Встретить их можно бессчётное количество по всему миру: в южных морях, в сувенирных лавках, в магазинчиках, в частных или серьёзных научных коллекциях. Но та, что лежала на соседнем столике у старика, при внимательном рассмотрении, действительно, была выдающейся во всех отношениях. Плавные, словно вылепленные по какой-то сложной математической формуле завитки спирали, выступы, напоминающие нежные лепестки, не хищные, а, напротив, подчёркивающие нежность и хрупкость творения, и цвет – цвет непрерывно меняющихся красок перламутрового вечернего неба, когда солнце у горизонта, перед тем как завершить день, в последний раз проглядывает сквозь разрывы дальней пелены облаков.
Крайне необычным был и цвет гладкой поверхности внутри верхнего отворота раковины – золотистый, густой и почти осязаемый, будто наполнявший раковину до краёв изысканным и дорогим вином.
Хозяин-бармен, заметив, куда обращены наши взоры, вышел из-за стойки и, положив перед нами книжечку-счёт, произнёс вполголоса:
- Извините, будьте аккуратнее. Старик немного не в себе.
- Нет проблем, - ответили мы. –Мы ракушкой любуемся. Восхитительный экземпляр!
- О, да, - кивнул головой бармен. – Понимаю. – Он ещё ниже наклонился к нам и добавил: - Этот старый человек влюблён в свою ракушку. Сильно любит её, понимаете? – он замялся, подбирая слова, - как любовь к женщине. – Бармен многозначительно поднял палец. При этих словах ни в голосе, ни в глазах хозяина кафе не промелькнул даже намёк на иронию либо снисходительную усмешку.
Получив сумму, полагающуюся по счёту, хозяин одарил нас на прощание лёгким поклоном и улыбкой, и возвратился внутрь бара. Мы поднялись, а я, желая сделать пожилому господину приятное, шагнул к нему и произнёс:
- Прекрасная ракушка! Разрешите взглянуть?
Старик, к этому моменту закончивший есть, резко протянул левую руку, прикрыв ладонью свою любимицу, и отрицательно поводил указательным пальцем. Затем перевёл взгляд на нас и, поправив китель на плечах, спросил:
- Вы моряки?
- Да.
- Америка? Англия?
- Россия. Русские моряки.
- А-а, - протянул старик, - знаю. Россия. Там у вас холодно и медведи. Мы воевали вместе.
Выложив, таким образом, основной багаж своих географических, исторических и климатологических познаний об упомянутой стране,
старик поочерёдно обвёл каждого из нас изучающим взглядом и сделал пригласительный жест к своему столику.
- Присаживайтесь. Я расскажу вам интересную вещь. Это не долго.
Свободного времени до возвращения на судно, повторюсь, у нас было предостаточно, - час, а то и больше; причал был буквально в двух – трёх сотнях метров от входа в порт, поэтому мы переглянулись, пододвинули стулья, с удобством разместились напротив старика и окликнули бармена, попросив его принести ещё по бутылочке пива, в том числе и владельцу замечательной раковины.
Хозяин-бармен, с улыбкой выставляя на столик новую партию бутылок, покряхтел, шутя погрозил нам пальцем и, не стесняясь того, что его слова услышит и пожилой джентльмен, сообщил:
- Вот вы и попались. А я вас предупреждал.
Старик на замечание хозяина заведения никак не отреагировал.
- Красивая раковина, - произнёс он, обращаясь к нам, но не отводя глаз от своей любимицы, - она мне жизнь спасла. Вы знаете, где Филиппины? Бывали там?
Мы утвердительно закивали головами, а один из моих друзей достал сигареты и закурил, настроившись выслушать историю старого моряка с максимальным для себя комфортом.
- Да, - продолжил старик отрывисто, резко отделяя слово от слова, - это Филиппины. Острова, – он немного помедлил и неожиданно изменил направление своей мысли, - а у него такой раковины нет, - старик недовольно скосил глаза по направлению к стойке. - Он её купить хочет. А я не продам. А это в Индонезии было. Острова.
Мы невольно отметили, что, вернувшись к основной теме, рассказчик несколько переместил на глобусе место событий.
Между тем старик продолжал свой рассказ всё оживлённее, иногда на короткое время замолкая и делая руками при этом непроизвольные движения, как бы выуживая из времени и воспоминаний молодости кадр за кадром.
- Тогда война была, да,- старик небрежно, без суеты отпил глоток из бутылки. - А у нас пароход. «Салли». Нет… «Долли», - он задумался. – Я помню. Но это не важно. Дрянной был пароход. Старый. Ржавый. А я матрос, молодой был, самый молодой в команде. Первый мой рейс. Долго. И жарко очень. Плохо, когда всё время жарко. Ползали между островами, загружали с лодок тюки. Большие такие, что-то растительное. Да. А потом в Индию пошли, догружаться. Ночью ничего не видно, вы знаете, вот ночью натолкнулись на мину.Их тогда много было, и там, и там. Она взорвалась: бум! – старик взмахнул руками, - но тогда никто не погиб, это потом случилось. Нас семнадцать человек команды. И шлюпка, и радиостанция переносная. Вам сейчас хорошо: космос, спутники, да? А мина была не простая, а секретная. Она много раз взрывается. Ночью. – Старик обвёл нас многозначительным взглядом, - Никто этого не знает, а я знаю, - добавил он шепотом, - секретная. Вот тут, - слегка постучав пальцем по виску, уточнил он.- Секретная мина. Бум! Каждую ночь.
Мы слушали его правдоподобный монолог всё внимательнее, постепенно проникаясь доброжелательной заинтересованностью и сочувствием к пожилому чудаковатому собеседнику.
- Утром остров увидели, - продолжал тот, - совсем близко. Погребли туда.
Картинка. Пальмы, пляж, песок. Плоский берег, одна только скала рядом, у воды – футов пятьдесят высотой. И в ней грот небольшой, до половины в воде, - старик всё более оживлялся, входя во вкус и получая сам удовольствие от произносимой речи, которая становилась всё более связной и пространной.
Старику явно нужна была благодарная аудитория. Безусловно, (я вспомнил предупреждение бармена) мы стали очередными, кто попался на крючок исключительной по красоте морской раковины.К тому же рассказчик не мог не заметить нашей заинтересованности и расположенности к нему как к бывшему коллеге по профессии, поэтому и речь свою продолжал, как нам подумалось, с некоторой излишней доверительностью, в такой манере, будто знакомы мы с ним издавна, не первый день.
- Да, - говорил он с наслаждением, - Грот. Это самое интересное. Но потом. Подошли, вытащили шлюпку на берег, кто под пальмами, кто на пляже, лежали, загорали, купались. По радиостанции ещё раньше связались, знали, что нас через день, не позже, заберут. Так часа три прошло. А потом отлив начался. Ох, не понравился мне этот отлив, - старик напряженно прищурился и поджал губы. - И не мне одному. Уж слишком быстро вода от берега уходила.За несколько минут на четверть мили дно обнажилось. Может, мы бы и сделали выводы разумные, но отвлекла нас одна вещь, и заранее скажу, на погибель отвлекла. Ушла вода, а один наш около скалы стоял, - кричит, машет: сюда давайте! Подошли, видим – дырка в скале, а вниз ступени идут. Детское любопытство, да. Если кто-то и кричал, что уходить надо, его не услышали. Полезли внутрь. Ступени скользкие, грязные, все в тине. А когда спустились, такие крики подняли, что даже те, кто лезть не хотел, вмиг к нам поскатывались. Помещение внутри было, как комната. Посередине – что-то вроде стола, кубик каменный. Да, это я хорошо помню, вот такой: - тут старик привстал и показал, раздвинув руки, какого размера был камень. - И на нём, и у стен, в нишах, на полу – полным-полно всякой утвари древней, посудины, вазы, горшки какие-то, все в водорослях, с потолка вода капает, а под ногами в лужах рыбёшки прыгают мелкие. Всё скользкое, мокрое… ну, вы себе ажиотаж представляете? – сокровища, сокровища!
- Золото?– прозвучал с нашей стороны вопрос. А у меня мелькнула мысль: «Так, приплыли. Дальше откровенный трёп пойдёт…»
Но изложение событий по ожидаемой колее не покатилось.
- Нет, - спокойно ответил старик, - слово «золото», нет, никто не кричал, может и было оно там, так ведь всё в грязи, в тине. Ну, всё равно, пошла тут толкотня, хватание…
Я говорил, что я в команде самый молодой был, разница в весовых категориях тоже заметная, не в мою пользу. Так вот, я тоже взял один горшок, и ещё, но после того как у меня пару раз вещи из рук вырвали, а потом двинули крепко, упал, потом поднялся с мокрого пола, одежда мокрая насквозь, грязная, но вот, как будто проснулся. Спал, а теперь проснулся. Понимаете? Стою у самых ступеней, нижняя ступенька, да, и смотрю. Бегают, шумят… И остро вдруг почувствовал, что добром вся эта история не закончится. Плохо закончится.А всё жадность, будь она неладна. А выше на ступеньках красивая раковина лежала, да, эта самая. Я вверх полез, к ней, к выходу, и её-то и успел поднять, перед тем как земля дрогнула. Толчок был такой, что я снова свалился, на этот раз на ступени. И последнее, что заметить успел перед тем, как наружу выскочил, - стена боковая рухнула, а за ней, внезапно, - громадная статуя сидит, каменная, ноги вот так, - старик показал, - под себя поджаты. Самое страшное – приподниматься статуя начала. Встаёт, как живая. Каменная; и живая. Вы не верите, да? А я это видел. Видел…
В этот момент (я оценил его гораздо позже) мы стали слушать рассказ настолько внимательно, что едва не позабыли и о пиве, и о времени. Но старый рассказчик сам напомнил нам об этом, сделав паузу и несколько раз приложившись к бутылке с прохладным пивом.
Мы терпеливо ждали, не тревожа старика вопросами.
- Так вот, - заговорил он снова, положив обе руки на стол и бережно обняв ладонями раковину, - выскочить я выскочил, а на песке стоять не могу, на колени упал, плохо мне, тошнит, пальмы шатаются, половина скалы обрушилась… Как земля под ногами дёргаться перестала, полез я наверх, на ту самую скалу. Карабкаюсь, а ракушка в руках, не бросил, нет, не выпускаю. Хотя карабкался наверх вполне сознательно,голова… я уже всё понимал, всё, и Богу молился, чтобы и в третий раз за день в живых оставил.
Пришла волна, и очень быстро пришла. Зрелище завораживающее, доложу я вам, не приведи Господь. Много пальм переломала, продукты наши, вещи, шлюпку, - всё на обратном пути в море забрала. А я так и торчал на скале, пока, ближе к вечеру, пароход не увидел. За нами шли,- голос рассказчика дрогнул. - За мной…
Вниз по щекам старика поползли две слезинки.
- Вот так, ребятки. Спасла она меня. Сохранила. А теперь я её берегу. Она меня хранит, а я её.
Больше старик не произнёс ни слова. Что в его рассказе было правдой, что выдумкой, - кто знает? Выговорившись, он застыл в неподвижной позе, внезапно потеряв всякий интерес к слушателям, и продолжал, как и до общения с нами,с нежностью и любовью, не отрываясь, глядеть только на ракушку. Похоже, он продолжал беседовать с ней, только теперь уже наедине, без посторонних. Пальцы его подрагивали. Он словно отключился и от нас, и от внешнего мира, сосредоточив взгляд, мысли, чувства на вечно юной, чистой, не потускневшей и не изменившейся с годами прекрасной раковине, спутнице всей его жизни – дочери далёких южных морей.
Нам ничего не оставалось, как подняться и окончательно раскланяться. В ответ на прощальные слова и пожелания старик в потрёпанном морским кителе не удостоил нас ни кивком, ни даже поворотом головы.
Мы не обиделись.
Кондитер Фессер
 Он был кондитер. Он был просто кондитер. В Одессе их было много, но он был один. Он умел делать так, чтобы было не просто сладко, а чтобы было вкусно. Поэтому его знали.
Он был кондитер. Он был просто кондитер. В Одессе их было много, но он был один. Он умел делать так, чтобы было не просто сладко, а чтобы было вкусно. Поэтому его знали.
Когда он шёл по улице на работу и с работы, с ним здоровались. Вы будете здороваться с кем - попало на улице? Нет. Фессер это понимал. И ему было приятно. Он сам желал здоровья всем людям. И пусть будут счастливы.
Был ли счастлив сам Фессер? Пожалуй, да. Хотя бы потому, что сам себе он этот вопрос никогда не задавал. Если бы спросили его об этом вы, то наверняка поставили бы в затруднительное положение. Конечно, он бы вам ответил, и ответил именно так, как вы сами ответили бы за него, но для этого требуется время. Нужно задуматься. Нужно задуматься, а что такое, собственно, счастье? Это же, как здоровье — оно есть, а ты его не замечаешь. К тому же все счастливы, когда в детстве. Мелкое уходит, забываются неприятности, забывается и холод и голод. Да, была гражданская война, и в ней прошло детство маленького Миши Фессера. Но та война была делом взрослых. Боялась мама. Боялась и пряталась вместе с Мишей в подвал, когда стреляли. У Миши страха не было. Всё тогда было интересно и увлекательно. В комнату, разбив форточку, залетела пуля. Удивительно, но и это воспоминание было радостным: выковырять пулю из стенки, показывать мальчишкам, хвастаясь и привирая, как она летела совсем рядом и чуть-чуть не убила, а потом долго-долго хранить её в спичечном коробке вместе с осколком радужного стёклышка и расплющенным под вагонным колесом гвоздиком... Хорошо!
Помнится, хотелось есть. Хотелось сладкого. Но и в гражданскую войну было лето, были сады и были вишни, были абрикосы и яблоки. Лето кормило. Летом была рыбалка. Летом был Привоз, где за помощь в перетаскивании и разгрузке можно было честно заработать те же яблоки или даже арбуз. А гордость добытчика, когда получалось притащить домой, маме, замотанный в перепачканную рубашку этот самый арбуз? Это чудесно. Это лето. Вот и детство, - детство в памяти Фессера осталось сплошным тёплым летом. Детство было счастливым - ответил бы Фессер. Мечтой оставались торты и пирожные. Может быть, поэтому он и стал кондитером. Все вокруг хотели стать моряками и лётчиками, непременно стать героями, а Мише хотелось стать кондитером. И что сказать?- своего он добился, он занимался тем, чем хотел заниматься и был доволен тем, как складывается его жизнь. Фессер не женился.
Фессер был, как бы это сказать, медлительным, что-ли. Нет, работать он умел и быстро, и ладно. Но избыточная, как многие полагали, мягкость и доброта отпугивали от него тех барышень, которым он во всём остальном был и привлекателен, и симпатичен. Вдобавок у Фессера было прозвище - «Франзолька». Как оно приклеилось, когда и почему - Фессера не волновало. Ничего обидного в этом слове он для себя не усматривал. Но! Маленькое «но» всё-таки было. Если у человека есть прозвище, значит какое-никакое, а чудачество за ним водится. Молодых девушек это явно смущало. К вопросу женитьбы у самого Фессера был иронично-философский подход: «Неужели для того, чтобы быть счастливым, непременно нужно быть женатым?»
Житейские наблюдения Миши, и опыт его знакомых, которым те щедро и откровенно делились, показывал, что это, мягко говоря, не совсем так. Фессер не торопился. Если что-то и заставляло его волноваться и даже расстраиваться, то это мелкие недоразумения и упрёки, касающиеся исключительно его работы.
- Есть нормы,- говорили ему,- не надо нарушать нормы.
- Почему нормы?- недоумевал Фессер,- Какие нормы? Я делаю крем, а крем должен быть крем, а не кисель!
Замечания сыпались регулярно, но с такою же регулярностью сходили Фессеру с рук. Фессера любили. Подшучивали, подругивали, но все же любили. И он любил. Любил всех. И был по-своему счастлив. Единственное, к чему он не испытывал ни любви, ни романтической привязанности, как ни странно, было море. Море, море, то самое море, без которого нет и быть не может Одессы, море - душа, суть и визитная карточка каждого человека, родившегося в этом городе, для Фессера было чужим и настораживающим. Было ли это связано как-то с избранной им профессией, было ли это реальным предчувствием беды,- кто знает? Но что-то недоброе таилось в глубине моря, подстерегало, хмурилось, выжидало и в конце концов дождалось.
Море обиделось на Мишу. И отомстило. Море позвало его к себе в самый неподходящий момент.
Началась война. Большая и нехорошая. На улице люди продолжали здороваться с Фессером, но с лиц знакомых стёрлись, исчезли улыбки. Торты и пирожные стали не нужны. Война с клювом стервятника принялась методично рвать, глотать и расшвыривать желания, планы и мечты. Войне был не нужен кондитер. Война была делом взрослых, и ей понадобился взрослый Миша Фессер. В толкотне и гаме призывного пункта Миша дождался своей очереди и сказал: « Я кондитер. Но я могу быть поваром». На него посмотрели долгим и недружелюб -
ным взглядом и ответили: « Ну, да. Повара тоже нужны»,- и отправили изучать пулемёт.
После нескольких дней, прокатившихся в грохоте и угаре, швырявших его то в одно, то в другое место, дней сумбурных, похожих на дурной сон, из которого хочется, но не получается вынырнуть, Фессер неожиданно очутился в порту. Последние сутки его передавали из рук в руки и, наконец, привели к старому грязноватому буксиру, пришвартованному у карантинного мола.
– Эй, на буксире! Миныч!- крикнул сопровождавший Фессера человек,- Вот вам матрос и пулемётчик. Сопровождавший тут же удалился, и Фессер остался один перед деревянной сходней, двумя - тремя шагами окончательно отделявшей всю его прошедшую жизнь от той, в которую предстояло окунуться, и привыкнуть, и быть в ней, веря и ожидая, что когда-нибудь всё снова изменится, и изменится непременно к лучшему.
– Ну, что стоишь, боец?- сверху на Мишу, облокотившись на поручни, глядел сухощавый пожилой человек, очевидно главный на этой посудине,- Проходи, знакомиться будем.
Фессер шагнул на истёртые, пружинящие под ногами доски. Земля закончилась.
Человек, позвавший Мишу, точно, оказался тут старшим.
– Василий Минаевич, капитан,- представился он.
То, что встречающий его человек какой-то начальник, Фессер предположил правильно, но тем не менее удивился. Капитанов он видел. Капитаны были не такими. Мужественное лицо, волевой взгляд, фуражка и всё такое прочее - тут этого не было. Из морской формы на капитане буксира Миша отметил только треугольник тельняшки, выглядывающий на груди из-под обычной, совсем не форменной, с длинными рукавами рубашки.
– Фессер, Миша. Я кон… - Фессер запнулся,- я к вам направлен,- и протянул бумаги.
Капитан, просмотрев документы, коротко спросил:
– Немец, что ли?
Миша вздрогнул. Нынешним летом фамилия не раз доставляла ему неприятности.
– Нет, я не немец. Я кондитер.
Лицо Фессера выражало настолько неподдельное огорчение, что старик-капитан улыбнулся.
– Ты не обижайся. Это я так. Фамилия всё-таки... Вот насчёт кондитера - это ты лихо сказал. Ага… Матросом направлен. Ты одессит?
Фессер кивнул.
– Вот, одессит. Значит моряк. Пошли, поговорим.
От капитана Фессер узнал, что буксир теперь на военном положении и не сегодня - завтра на него должны установить пулемёт, что троих человек из команды не должны были, но в общей неразберихе и нестыковке распоряжений всё же забрали в краснофлотцы, и что за разукомплектованность экипажа досталось именно ему, капитану.
То, что вновь-прибывший до этого не имел никакого отношения к морским профессиям, капитана не смутило.
– Ничего. Время такое. Не боги горшки обжигают. Освоишься, поможем.
И Фессер стал осваиваться. Незнакомое и непознанное довольно быстро становилось понятным. Бак, корма, палуба, трапы, тросы, гаки - теперь всё это было не в книжках, не в красивых, но далёких и отвлечённых разговорах и рассказах о море, а было близко, было осязаемо, ко всему и можно и должно было прикоснуться, и подчинить себе, и заставить работать.
Война скоро кончится, вот-вот, и начнём гнать врага,- слышалось отовсюду. Но «вот-вот» упрямо и необъяснимо двигалось в противоположную сторону. Сначала оно сползло на осень, затем быстрым прыжком перескочило на будущую весну. Военная туча подкатывалась к Фессеру всё ближе. Одессу уже бомбили. Порт опутали маскировочные сети. На буксире в целях секретности закрасили название и, наконец, установили глядящий в небо пулемёт. Вместе с ним, к радости и облегчению Фессера, на буксир прибыл и настоящий, в обмундировании и каске, стрелок. Нового члена команды звали Борей, был он ровесником Фессера, но, как выяснилось, в отличие от Миши за плечами имел и службу в РККА, и даже прыжки с парашютом. Крепкий широкоплечий парень с первого взгляда вызывал уважение. Капитан Миныч с появлением в своём хозяйстве стрелка и пулемёта ходил в приподнятом настроении, почувствовав защищённость. Боря же назначением был недоволен. Он рассчитывал и рвался попасть на передовую, но, по выражению самого Бори, - «Не та карта выпала...»
Из Одессы на Крым уходили первые конвои. Буксир метался по порту, помогая швартовать корабли и транспорты, затем выводил их, загруженные до отказа, за маяк на рейд. Миша Фессер вместе с Борей исправно таскали тросы, как заправские моряки точными движениями накидывая их «восьмёркой» на массивные кнехты.
По окончании очередной работы Миша с грустью смотрел на свои руки,- руки перестали отмываться. Привыкшие к нежным и аппетитным ароматам, руки его приобретали стойкий запах металла, пакли и оружейной смазки. В последнем отчасти был виноват Боря, взявшийся в свободное время обучать Мишу тонкостям устройства пулемёта.
– Тебя учили, но не доучили. Женщина любит ласку, а пулемёт смазку,- приговаривал тот с ухмылкой, наблюдая, как Миша перепачканными руками возится с затвором, заряжает ленту и готовится к стрельбе.
Фессеру такое сопоставление, при всей его фактической и очевидной бесспорности, было почему-то не симпатично. Но он не возражал. Он, как и видавший виды Миныч, доверился Боре, как доверяется ребёнок более опытному, сильному и великодушному товарищу, который и может случайно толкнуть, но умышленно никогда не обидит и не бросит, а, напротив, и подсобит, и поддержит, и вытащит из любой передряги. Миша прощал ему и колкости, и лёгкие насмешки, и даже то, что необъяснимым образом в одно время с появлением Бори на буксир коварно просочилось оставшееся - было на берегу «Франзолька». Вряд ли Боря, ранее и не подозревавший о существовании Миши Фессера, был непосредственно к этому причастен, но до него ни капитан, ни державшиеся особняком механик с машинистами к Мише так ни разу не обращались.
– Не дрейфь, Франзолька, будем ещё твои тортики кушать. Угостишь?- спрашивал Боря.
В ответ Миша кивал головой и улыбался. Он отметил, что рассказы о его настоящей, береговой и мирной профессии никогда не встречали у тех, кто по воле судьбы находился сейчас рядом, ни иронии, ни пренебрежения. То, что было у каждого до начала войны, что было само собой разумеющимся, повседневным, подчас скучноватым и незаметным, теперь виделось абсолютно в ином свете, переосмысливалось, приобретало значимость, а если вспоминалось, то вспоминалось с теплом, нежностью и грустью. С лёгкой руки Миныча вошло в обыкновение, что часто после обеда либо ужина, меню которых составляли преимущественно каши, консервы и чай, Мишу просили рассказать что-нибудь «на сладкое». И Миша рассказывал. Рассказывал подробно, увлекаясь и жестикулируя, рассказывал так, как рассказывал бы, стараясь передать ученику все премудрости и особенности конкретного кулинарного рецепта. Под рукой у Фессера не было ни сметаны, ни ванили, ни взбитых сливок, но, тем не менее, судя по реакции слушателей, каждый раз они получали нечто большее, чем просто рассказ. Это трудно было объяснить, но Миша чувствовал, что происходило именно так.
– ...Получается очень вкусно,- всегда одной и той же фразой завершал он своё повествование.
– Да-а, Мишаня, ты таки кондитер. Ладно. За угощение спасибо,- от имени всех говорил капитан, не спеша поднимаясь из-за стола. - Топаем дальше. Напоминаю – на палубе быть в касках.
Напоминание касалось всех, но относилось в основном к Мише. Со стальной, предназначенной для защиты от ударов и осколков каской Фессер, что называется, «не подружился». Каска то сползала ему на глаза, когда он нагибался, то перетянутым ремешком передавливала дыхание, а однажды во время швартовки вообще слетела с головы и едва не упрыгала за борт. Кинувшись ловить её, Миша упустил только что поданный швартовый трос, в результате чего трос уполз с палубы обратно в воду, и работу пришлось начинать заново. Наверху, на большом транспорте, корма которого нависала над буксиром, смеялись матросы. А Боря не засмеялся. Покраснел, покачал головой, но не засмеялся. И ничего Мише не сказал.
К осени стало совсем плохо. Город боролся, город жил, но война, не смотря на сопротивление, на гибель, на усилия тысяч и тысяч людей, гангреной ползла и ползла на восток, на юг, кровавым гнойным кольцом охватывая Одессу.
Приказ о включении буксира в конвой и об уходе Василий Минаевич огласил подчёркнуто официально, собрав команду в рулевой рубке.
– Что примолкли? - капитан оглядел подчинённых, - готовимся, стало быть, к бою и походу. На всё про всё полдня...
В открытое море выходили ночью, не зажигая ходовых огней. Когда с правого борта медленно проплыл, уходя назад, во мглу, конец мола с взорванным красавцем-маяком, Миша заметил, что по щекам Миныча, стоящего за штурвалом и пристально всматривающегося в темноту рейда, катятся слёзы.
– Мы вернёмся,- не стесняясь Фессера, старик-капитан зло, как при насморке, шмыгал носом.- Вернёмся. Иначе и быть не может...
Миша стоял сбоку от Минаевича и так же напряжённо глядел в окружавшую его ночь. Мише было жутковато.
А ночь,- ночь была повсюду, со всех сторон: и сверху, в беззвёздном затянутом дымкой небе, и спереди, и справа, и слева, и даже под самим буксиром была не вода, а ночь - чёрной бесконечной пропастью. Чёрным был и влажный липковатый воздух, упругими ударами залетающий в открытые двери рубки. В какой-то момент Фессеру показалось, что буксир не движется, а висит в темноте.
«Мы пройдём через ночь, мы обязательно пройдём,- отталкивая навалившийся на него страх, думал Фессер.- А иначе... Иначе - это как? Что означает «иначе»? Что за этим словом? А ничего за ним нет – сплошная ночь, и сплошная темнота без конца и края. Значит, пройдём. Даже долгие ночи, и те когда-нибудь заканчиваются... Утро...»
Последнее слово Миша, очевидно, произнёс вслух, потому что, кашлянув, отозвался Миныч:
– Утро? До утра ещё о-ё-ёй. Оно, конечно, рассветёт, полегче будет, но там свои «прелести». Ох, проскочить бы... Мы ж днём с воздуха как на ладошке... Рыбёшка мы мелкая... Поглядим. Будут нас рвать, будем и мы кусаться.
«Как у него всё получается?- слушая Минаевича, продолжал думать Фессер,- Как он видит в темноте? Он же видит. А я нет. Ночь закончится, закончится, закончится…»
И ночь начала отступать. Вначале медленно, неохотно, затем всё быстрее и быстрее. Прямо по курсу над горизонтом появилась светлеющая полоса, обозначив на своём фоне силуэты идущих в сторону рассвета кораблей. Полоса ширилась, росла вверх, наполняя начинающийся Мишин день лёгкостью и ясностью.
А капитан Миныч, который всю ночь простоял у штурвала, переминался с ноги на ногу и заметно нервничал.
– Ох, не тянем, не тя-янем…- кряхтел он, морщась и вздрагивая от утренней прохлады.
Тут Миша Василия Минаевича понимал. Буксир, начавший движение примерно в центре конвоя, теперь плёлся в конце, всё дальше отставая от основной группы. Отставание заметили и на одном из замыкающих конвой кораблей охранения. Остроносый шустрый сторожевик подлетел почти вплотную к буксиру, с него красными флажками просигналили: «Следовать самым полным». Не сбавляя ход и рассекая, будто лезвием ножа, зеркальную, не тронутую ветром поверхность воды, сторожевик ушёл вперёд.
– Миша, спустись-ка, разогрей чайку, а? И для Бори сообрази, а то, глянь, - он уже с дымарём обнимается,- Минаевич, не оборачиваясь, ткнул большим пальцем назад, где Боря, нёсший вахту у пулемёта, грел руки о тёплый кожух дымовой трубы.
Миша отправился делать чай. В каюте, в замкнутом пространстве, рядом с шумящим медным чайником Фессер ощущал себя несравненно уютнее, чем на открытой палубе. Сюда тоже доносился шум работающего двигателя, но тут, в каюте, был дом. Вернее, кусочек, отголосок дома, того самого, далёкого, в котором когда-то вместе с мамой жил Миша и в котором рядышком, бок о бок с ними, всегда жил мир.
Приготовив чай, Миша окончательно успокоился, отнёс одну кружку Боре, вернулся за двумя другими и, зажав их рукавами телогрейки, аккуратно поднялся наверх к капитану.
– Та-ак, порядочек. Смотри, берег показался. Видишь? Можно чаёвничать,- Минаевич, одной рукой продолжая держать рукоятку штурвала, потянулся за кружкой.
И тут случилось то, чего никто, абсолютно никто не хотел, и чего так сильно опасался капитан буксира.
Снаружи раздался громкий, перекрывший прочие звуки крик. Кричал Боря. В первую секунду Миша ничего не понял, но когда Минаевич, на мгновение оставив штурвал, бросился к левой двери и глазами впился в небо, Фессер похолодел, сообразив, почему и что кричит им Борис.
– Ну, кранты, мать их перетак! - Миныч, оттолкнув Фессера, проскочил обратно в рубку.- Каску надень!
Куда-то сунув расплескавшиеся кружки, Миша нахлобучил каску и, торопливо поправляя мокрыми пальцам непослушный ремешок, выглянул за дверь. Сзади, с той стороны, куда Боря рывками разворачивал пулемёт, к буксиру над самой водой неслись, быстро увеличиваясь в размерах, самолёты. Не отводя взора, Миша, как завороженный, застыл в распахнутой двери.
- Назад! Ложись!- Минаевич за шиворот втащил Фессера внутрь.
Когда первая тройка самолётов поравнялась с буксиром, пулемёт загрохотал.
Но и эта группа, и следующие, обдавая рёвом, летели мимо, к конвою, не отвлекаясь и не обращая никакого внимания на одинокий буксир.
– Не стреляй! Боря! Не стреляй! - кричал из-за стекла рубки Миныч и делал отчаянные жесты руками,- Боря, не надо!
Зачем это вдруг - «не стреляй», Боря услышать не мог. Он делал то, что положено было делать, и сам, стреляя, что-то выкрикивал, не слыша собственного голоса.
К великому Бориному огорчению, стрельба его по вражеским самолётам ни вреда, ни видимого урона тем не причинила. Но и не замеченной не осталась. Похоже, Минаевич запаниковал не случайно. От удаляющихся машин, которые резко набирали высоту и веером разворачивались над конвоем, отделилась одна и, уйдя в сторону, устремилась обратно на осмелившееся атаковать их стаю судёнышко.
– Ё - моё..., Ах, т-тварюка... Во-оздух! Воздух!- теперь уже уверенно, зная, что стрелок его непременно услышит, снова закричал Минаевич.- Ну, держись теперь!.. Пескарь на сковородке...- капитан то приседал на корточки, чтобы что-то высмотреть наверху, то подымался, выкручивая колесо штурвала, и буксир стал выворачивать вправо, открывая для пулемёта ту часть неба, откуда валился на него самолёт.
У Миши Фессера бешено колотилось сердце. Он растерялся и, не представляя, как нужно вести себя, что делать, глядел на капитана и, повторяя его движения, машинально тоже, то привставал, то приседал, чувствуя противную и предательскую дрожь под коленками.
Дальше, как впоследствии вспоминалось Мише, всё произошло в одну секунду. Рёв мотора прямо над головой, взметнувшиеся у борта фонтаны брызг, стрельба, град ударов по металлу, посыпавшиеся осколки стёкол и близко, глаза в глаза, лицо Минаевича. Тот тряс Фессера и куда-то тянул.
– ...мёту, Миша, быстро! К пулемёту!- Миша скорее догадался, чем расслышал голос капитана, и с открытым беззвучным ртом, суетливо и невпопад хватаясь руками за переборку и поручни, метнулся из рубки на палубу.
У пулемёта, на верхней палубе, усыпанной кусками отколовшейся краски и стреляными гильзами, корчился, зажимая окровавленную ногу и громко матерясь, здоровяк Боря.
– Щас, Борь, щас,- Миша нагнулся к нему, намереваясь куда-то тащить, прятать, помогать, но тот, не давая себя ухватить, отталкивал Мишины ладони:
– Стреляй! Пулемёт! Потом, потом!..- и Фессер, распрямившись, вцепился в рукоятки пулемёта, подчиняясь не своей и даже не Бориной, а какой-то чуждой, непонятной воле, управляющей, не спрашивая согласия, всеми его действиями.
– Стреляй, Мишаня, стреляй!.. Стреляй же...
Поворачивая пулемёт, никого и ничего уже не слушая, Фессер шептал сам себе:
– Прицелиться... Я должен прицелиться...
Когда выходящий из виража самолёт попал наконец в перекрестие прицела и стал падать, разрастаясь, прямо в него, Миша нажал на гашетку.
«Дуэль... Пушкин... конец...» - как огонь выстрелов, блеснули в мозгу обрывки мыслей. Под ногами у Миши и где-то сзади вздрогнул и затрясся от страшных ударов металл. Тот, кто находился в самолёте, стрелял в кондитера Фессера. Он хотел его убить. Но не убил.
Злобная громадная машина с крестами на крыльях, продолжая падение и едва не задев мачту, с шумом вонзилась в море, подняв ввысь целую стену воды. Буксир мотануло так, что Борис, завопив от боли, накатился Фессеру на ноги.
– Сейчас, сейчас,- оторвав от пулемёта ещё звенящие от вибрации пальцы, Миша упал на четвереньки в красную, похожую на густой кисель лужу рядом с Борей и, бормоча какие-то утешительные слова, поволок его по раскачивающейся палубе к каютам.
– Мишаня... Мойша, родненький...- Боря, тяжеленный и беспомощный, пытался разговаривать с Фессером и тянулся к нему свободной рукой.
Из рубки по ступенькам трапа на помощь скатился Миныч:
– Ай, сынок! Ай, франзолька ж ты моя любимая!- старик первым делом почему-то схватил Мишу за щёки и чмокнул его в нос.- Ай, умница!
И только потом, позже, когда Борю уложили и перевязали, когда, плеснув из ведра, смыли с палубы кровавые разводы, а Миша занял место стрелка и стоял, прислонившись спиной к бубнящей дымовой трубе, до него вдруг дошло, отчего Минаевич кинулся к нему целоваться и почему он упоминал то-ли орден, то-ли медаль, которые полагаются за геройство и сбитый вражеский самолёт.
«Я сбил самолёт?.. Да нет же... Нет, он... Он, наверно, сам...- мысли Фессера путались,- Или поломался... Боря герой. Он стрелял, он ранен... Я стрелял... А море забрало того... Того... Нет, что-то не так. Или так?..»
У Миши ёкнуло сердце: он поймал себя на том, что, задумавшись, совершенно перестал следить за воздухом. Но самолётов уже не было. Нигде,- ни вблизи, ни вдали. Некоторые из них, страшные, но уже невидимые, лежали теперь под водой. Остальные умчались за горизонт, оставив после себя единственный разрушительный след короткого налёта - окутанный по всей длине густым чёрным дымом тонущий транспорт. Именно к нему и приближался, следуя указанным курсом и не снижая оборотов, Мишин буксир.
Сильно накренившись на левый борт, грузовой пароход горел.
Поблизости, слева и справа от него, стояли, спустив на воду спасательные шлюпки, два сторожевых корабля. Шлюпки двигались, на них спешно поднимали тех, кто сумел спастись и ещё держался на плаву. Кроме шлюпок, людских голов, каких-то плавающих обломков, на поверхности находились три или четыре плота, сброшенных, видимо, с тонущего транспорта. То, что происходило на одном из них, привлекло внимание Фессера.
В отличие от соседних, переполненных, на этом, размахивая чем-то красным, металась одинокая мужская фигура. Всмотревшись, Фессер увидел, как человек, скорее всего обезумевший, потерявший рассудок от того, что произошло с пароходом, с пассажирами, с ним самим, вертится и, не позволяя плывущим приблизиться к занятому им одним плоту, размахивает коротким пожарным топориком, время от времени попадая по рукам, тянущимся из воды к свободному плоту. Человек кричал. Кричали покалеченные им и тонущие люди. С ближайшей к плоту шлюпки, поднявшись над сидящими, в морской форме человек с винтовкой в руках тоже что-то кричал в направлении плота. Затем человек вскинул винтовку.
Миша услышал и увидел выстрел. Мечущаяся фигура деревянно сломилась пополам и вслед за топориком медленно перевалилась в воду через невысокий бортик. На плот начали забираться люди.
Тут же со стороны задымленного транспорта до буксира стал доноситься пронзительный, слышный на большое расстояние, непрекращающийся женский визг. В разрывах между клубами дыма Фессер заметил высоко над водой застрявшее в бортовом отверстии ещё живое человеческое тело. Из соседних с ним иллюминаторов изнутри парохода выбивались языки пламени. Человек горел. Ни подняться к нему, ни дотянуться, чтобы освободить, вытащить, хоть как-то, хоть что-то сделать, было невозможно. Стоящий в шлюпке человек поднял, опустил, затем снова поднял к плечу винтовку. Фессер резко отвернулся, зажав ладонями уши…
Сколько он так простоял, зажмурившись и не опуская рук, Миша не помнил.
Спросить,- зачем вот это всё, почему так происходит, кто это всё затеял, кому, в конце концов, понадобилось, чтобы всё происходило так, а не иначе – было не у кого.
То, что случилось с Мишей и вокруг него за последний час, было реальностью. Реальностью извращённой, абсурдной, дьявольской, но, тем не менее, реальностью. Ему и до этого, совсем недавно, приходилось видеть разрушенные дома и людей, погибших во время бомбёжек, и видеть это было больно, было тяжело, но тогда это был итог, конечный результат страшного действия, которое, пускай на время, но всё же остановилось.
Внутри этого действия Миша оказался впервые. Его поразила простота и обыденность происходящего. Боря не испугался самолёта. Он герой. Горела живьём женщина. Её пожалели и застрелили. Застрелили сумасшедшего на плоту. Потому что пожалели других. Утонул хороший красивый пароход. Утонули люди. И всё это правильно? И всё это не понарошку.
- Вот и «тот»,- шептал Фессер,- Тот, который был в самолёте,- он теперь не живой…Он на дне, в море. И он хотел туда? Нет… а получилось так, как получилось…
Фессер открыл глаза и смотрел в небо, ясное и безоблачное небо. Он чувствовал, как внутри его головы нарастает и пульсирует болезненный скрежет. Хотелось, мучительно хотелось думать не о взрывах, не о пожарах и страданиях, а о чём-то ласковом и тихом. Миша внезапно осознал, что если он сейчас же, немедленно, сию секунду не избавится от разъедающего его мозг шума, случится нечто жуткое и непоправимое.
И выручила память. В ней спасительным солнечным зайчиком возник сон. Сон этот приснился Фессеру накануне выхода из Одессы, посреди войны, но был совсем не военный. Сон был добрый и несуразный: Миша купался. Между ним и песчаным пляжем, подъехав прямо по воде, остановился трамвай. Пышная вожатая высунулась из окошка и что-то долго и радостно рассказывала Фессеру. А на берегу, на пляже нервничали отдыхающие. Им не нравилось, что между ними и морем остановился трамвай «Мы не счастливы»,- шумели они и, взывая к справедливости, возносили к небу руки,- «Мы не счастливы! Трамвай мешает нам купаться!..»
Вагоновожатая, которая не закончила свою речь, от Миши обернулась к ним:
- А шо такое?- горячилась и возмущалась она.- Шо такое? Я встретила знакомого. Я имею право с ним поговорить?..
И Миша тоже силился успокоить, объяснить людям на берегу, что всё будет хорошо. Но его голос был никому не слышен. Никому. Так часто бывает во сне. Миша стоял по пояс в воде и, виновато улыбаясь, ладонью гладил тёплое море…
Буксир вслед за конвоем бежал к берегу. За кормой его вились чайки, выхватывая мелких рыб из закрученной винтами воды. Им не было никакого дела ни до Миши Фессера, ни до тех, кто остался позади, на поверхности, ни до тех, кто навсегда погрузился в тёмные глубины. Чаек интересовала рыба.
«Так будет всегда,- подумалось Фессеру - всегда. Чайки будут летать над морем. Будет светить солнце. Всё пройдёт, рано или поздно всё вернётся на свои места. Ночь закончится. И я буду кондитером. Ведь я же не моряк, я не пулемётчик. Это правда. Я не хочу быть ни тем, ни тем. Я хочу быть самим собой. Я – кондитер Миша Фессер. По-другому нельзя. Мы вернёмся. Мы обязательно вернёмся. И пусть все будут счастливы».